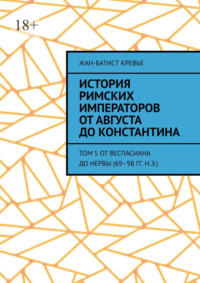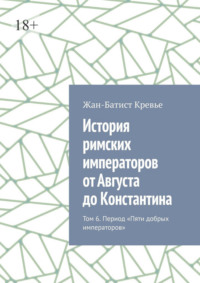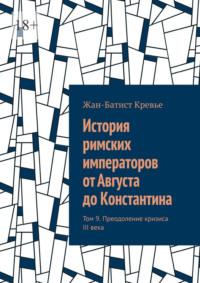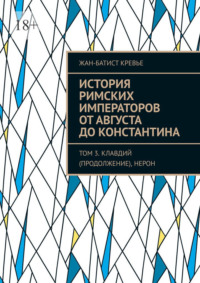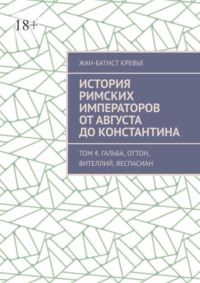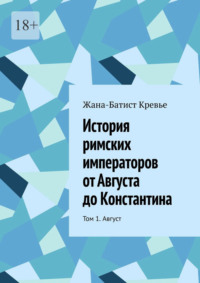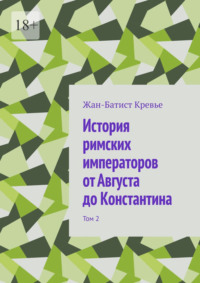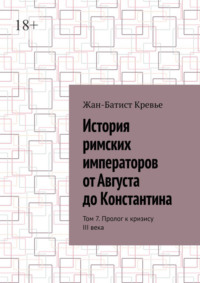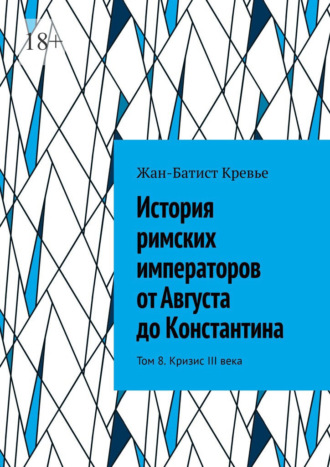
Полная версия
История римских императоров от Августа до Константина. Том 8. Кризис III века
Цензорская власть после установления императорского правления почти всегда соединялась с ней. Павел и Планк – последние частные лица, совместно исполнявшие эту должность за двадцать два года до Р.Х., когда Август уже прочно владел империей. Клавдий разделил титул и полномочия цензора с Вителлием. С тех пор императоры неизменно оставляли за собой эту должность, хотя обычно не принимали ее титула. Деций, по-видимому, из желания исправить нравы, решил доверить эту обязанность частному лицу, которое могло бы посвятить себя ей полностью, не отвлекаясь на другие дела; и он не побоялся изъять столь важную функцию из императорской власти. Находясь в Иллирии, занятый войной с готами, он написал сенату, приказав избрать цензора.
Как только претор, председательствовавший в собрании в отсутствие обоих Декциев – императоров и действующих консулов, – огласил полученные распоряжения, не потребовалось даже обсуждения: единодушное мнение сразу склонилось в пользу Валериана. Со всех сторон раздавались возгласы: «Жизнь Валериана – это непрерывная цензура; ему, лучшему из всех, подобает судить всех. Валериан с детства был достойным цензором по чистоте своего поведения: мудрый, скромный, исполненный достоинства сенатор, друг добрых, враг тиранов, борец с пороками. Его мы хотим видеть цензором; ему мы хотим подражать. Более знаменитый своими заслугами, чем знатностью рода, он являет в себе чистоту нравов и высоту познаний. Это единственный в своем роде пример: он воскрешает в своей особе древнюю добродетель». Эти неоднократно повторяемые возгласы завершились объявлением всеобщего согласия. «Мы все того же мнения!» – воскликнули собравшиеся. Так был составлен сенатский декрет.
Валерьен в то время находился в армии. Как только Дек получил сенатское постановление, он немедленно вызвал его и в присутствии собранных первых лиц своего двора объявил ему о его избрании, одновременно подробно изложив всю полноту полномочий его должности:
– Валерьен, – сказал он, – вы имеете все основания радоваться тому, что удостоены такой чести по решению сената, или, вернее, того, что заслужили его полное уважение, привязанность и единодушное признание. Примите власть цензора, которую только вы способны достойно исполнять и которую Римская республика возлагает на вас в отношении всех своих членов, дабы вы судили об их поведении. Вы будете решать, кто достоин сохранить или приобрести звание сенатора; вы вернёте сословию всадников его прежний блеск; вы будете ведать государственными доходами и заключать договоры о них; военные подчинены вашему надзору; вы будете судить самих судей, чиновников нашего дворца, тех, кто занимает высшие должности в государстве. Одним словом, за исключением городского префекта, действующих консулов, царя жертвоприношений и первой весталки (при условии, что она сохраняет свою честь незапятнанной), все сословия и частные лица подлежат вашему осуждению. И даже те, кто освобождён от него, сочтут своим долгом угождать вам.
Валерьен, далёкий от ослепления столь блистательной честью, предложенной ему столь лестным образом, почувствовал лишь её бремя и стал отказываться от принятия.
– Великий и почтенный император, – сказал он, – не принуждайте меня взять на себя ношу, подобающую лишь вашему августейшему положению. Цензура – это императорская функция, которую частное лицо не может исполнять. Лично я особенно чувствую, что мне недостаёт и сил, и уверенности. Я даже не знаю, не противоречат ли этому обстоятельства: в том состоянии, в котором я вижу человеческий род, я не считаю его способным к исправлению.
Здесь наш автор оставляет нас, не сообщая [1], были ли приняты отговорки Валерьена или Дек принудил его принять цензуру. Ясно из последующих событий лишь то, что если даже Валерьен и стал цензором, он вряд ли мог широко применять свою власть. Дек погиб вскоре после этого, а строгая цензура была бы совершенно неуместна при Галле, который предавался изнеженности и бездействию.
Таким был Валерьен, когда он был возведён на престол. Сенат, народ, провинции с готовностью одобрили выбор солдат, и если бы каждому была дана свобода назвать императора, не нашлось бы никого, кто бы не отдал за него свой голос. Однако столь единодушно признанные достоинства оказались недостаточными для его высокого положения. Валерьен, блиставший на низших должностях, не смог удержаться на вершине власти, и к нему в полной мере можно применить слова Тацита [2] о Гальбе: он казался выше частного звания, пока оставался частным лицом, и все единогласно сочли бы его достойным императорской власти, если бы он никогда не был императором.
Если бы честности было достаточно для управления обширной монархией, Валерьен, без сомнения, стал бы великим государем. Он отличался простотой нравов, прямотой, искренностью; он любил справедливость, избегал угнетения народа, охотно прислушивался к добрым советам и отдавал должное тем, от кого их получал. Он обладал даже весьма важным для государя качеством – умением ценить заслуги: и можно заметить, что многие из военачальников, которых он назначал на важные посты, либо сами становились императорами, либо, узурпировав верховную власть, правили так, что их можно было упрекнуть лишь в незаконности способов, какими они её достигли.
Всё это достойно всяческой похвалы, но искусство управления требует также талантов, которых Валерьену недоставало: широты взглядов, твёрдости духа, активности в исполнении, понимания глубин человеческого сердца и разумной осторожности против козней злодеев. Валерьен был человеком ограниченным, слабым, медлительным, доверчивым – и вследствие этих недостатков его правление стало чередой бедствий и завершилось самым позорным крахом.
Правда, империя находилась в плачевном состоянии, когда Валерьен взял бразды правления. Внутренние раздоры римлян, непрерывная смена императоров, падавших один за другим, оголённые границы из-за необходимости армиям утверждать в Риме своих избранников, заботы самих этих государей об укреплении своей власти и предотвращении (если бы это было возможно) мятежей – всё это вместе ослабляло государство и делало его лёгкой добычей для внешних врагов. Германцы угрожали на Рейне, готы, бургунды, карпы – на Дунае; другие скифские народы опустошали Азию; персы нападали на восточные провинции. Огромные размеры империи лишь умножали число войн и врагов. Впоследствии Клавдий II, Аврелиан, Проб одолели подобные, если не большие, трудности и опасности. Но превосходство их гения позволило им найти средства, которых слабый Валерьен не сумел ни открыть, ни применить.
Одновременно с признанием Валерьена сенатом его сын Галлиен, находившийся в Риме, был также объявлен Цезарем. Валерьен сделал его Августом, уравняв в звании с собой своего восемнадцати- или двадцатилетнего сына, который, не будуcь лишённым ума, обладал самым дурным и низким характером из упоминаемых в истории. Поскольку семья Валерьена была весьма многочисленна, я считаю, что для ясности последующего изложения стоит привести её схему.
Валерьен, именуемый в надписях P. Licinius Valerianus, был женат дважды. От первого брака у него был P. Licinius Gallienus, которого мы называем просто Галлиеном – имя, заимствованное у деда этого принца по матери, видного деятеля республики. Второй брак Валерьен заключил с Маринианой, известной лишь по монетам, свидетельствующим о её обожествлении. От Валерьена и Маринианы родились два сына, оба ставшие Августами: Валерьен Младший и Эгнаций [3]. У этих принцев были дети, не оставившие следа в истории. Галлиен женился на Салонине и имел от неё по крайней мере двух сыновей, носивших среди прочих имя Saloninus и оба удостоенных титула Цезаря. Мы называем одного Валерьеном, другого – Салонином.
Император Валерьен, видя, что его трон со всех сторон окружён врагами, принял меры, чтобы противостоять им. Он отправил своего сына Галлиена в Галлию для борьбы с германцами, а сам взялся изгнать скифские народы, опустошавшие Иллирию и Азию.
Галлиен был слишком молод для возложенной на него миссии. Но, хотя ему и не хватало чувства чести и добродетели, воинской отваги он был не лишён. Валерьен дал ему лишь звание и почёт генерала, а в наставники и советники приставил Постума, умелого воина, который впоследствии присвоил себе титул Августа и славно правил в Галлии. Валерьен думал поручить эту должность Аврелиану, будущему императору, но опасался его чрезмерной суровости.
– Мой сын, – написал он другу, удивившемуся предпочтению, отданному Постуму, – ещё очень молод, даже ребёнок. В его образе мыслей и поведении много легкомыслия. Я опасался, признаюсь, что Аврелиан, столь суровый, может быть к нему излишне строг.
Галлиен, управляемый Постумом, добился успехов против германцев. Эти германцы вполне могли быть франками [4], которые в начале своего существования часто обозначались более известным в то время именем. Некоторые ученые даже относят к рассматриваемому нами периоду победу, которую одержал над ними Аврелиан, тогда еще трибун, хотя мы сочли нужным отнести это событие ко времени Гордиана III. Более вероятно, что Аврелиан, названный в письме Валериана, посвященном ему, «восстановителем Галлий», при этом императоре уже достиг высокого звания; что он командовал под началом Галлиена и Постума значительным войском и отличился в этом качестве более блистательной победой, чем его первый подвиг. Монеты действительно свидетельствуют о победе над германцами, которая принесла Галлиену титул «Германик Максим» – «Величайший Победитель Германцев».
Чтобы обеспечить спокойствие Галлий, Галлиен сочетал переговоры с военной силой: после того как в нескольких сражениях была сломлена гордость германцев, он заключил союз с одним из их князей, который не только согласился не переходить Рейн, но и обязался удерживать от этого своих соплеменников.
Таково представление о том, что совершил Галлиен в Галлиях во время правления своего отца, или, точнее, что совершили Постум и Аврелиан от его имени. Согласно Зонаре, Галлиен прославился еще одним весьма блистательным военным подвигом в Италии. По словам этого автора, с десятью тысячами человек он разбил под Миланом триста тысяч алеманнов. Это трудно поверить, и то, что в этом рассказе может быть правдой, вероятно, следует отнести к более позднему времени.
Не менее ожесточенно война шла в Иллирии. Племена, жившие у Дуная, наводнили эту обширную область и учинили там ужасные опустошения. Валериан, перебравшийся в Византий, чтобы быть ближе к врагам, направил против них различных полководцев, среди которых наиболее выдающимися были Клавдий и Аврелиан – оба впоследствии императоры. Аврелиан в частности одержал крупную победу над готами и был вознагражден за это консульством.
Проб, также в будущем достигший императорской власти, был тогда слишком молод, чтобы командовать самостоятельно. Но он уже выделялся всеми прекрасными качествами благородной души и воинской доблестью. Валериан досрочно назначил его трибуном и не имел повода раскаиваться в этом. В битве против сарматов и квадов Проб проявил чудеса храбрости и заслужил гражданский венец, освободив из рук варваров Валерия Флакка – юношу знатного происхождения и родственника императора.
Когда Иллирия была таким образом защищена от набегов готов благодаря подвигам этих великих мужей, предстояло оказать помощь Малой Азии, которой угрожали полчища других варваров – скифских народов, среди которых особенно выделялись бораны. Сначала их набеги ощутили в районе Фасиса и Колхиды, куда они прибыли морем. У них не было собственных кораблей, но они получили их у жителей Боспора. Зосим отмечает, что пока малое Боспорское государство управлялось наследственными царями – друзьями и союзниками римлян, торговавшими с ними и получавшими от них дары, – эти правители препятствовали скифам вторгаться на земли империи. Но после пресечения царского рода, когда скипетр перешел в недостойные руки, новые правители, слабые и малодушные, испугались угроз скифов и не только позволили им пройти, но даже предоставили им корабли.
Бораны (именно этот скифский народ нас интересует), высадившись в Колхиде, отослали корабли и тут же рассыпались по всей равнинной стране, грабя и опустошая ее по-варварски. Затем они осмелились напасть даже на Питиунт [5] – укрепленный город, защищавший в этих краях границы империи. Управлявший городом Сукцессиан, храбрый военачальник, располагавший хорошими войсками, так встретил врагов, что сразу лишил их надежды на успех. Он разбил их и преследовал. Бораны, понеся большие потери, счел себя счастливыми, что смогли поспешно бежать на родину на кораблях, которые они захватили силой на побережье.
Жители Питиунта и всей округи считали себя полностью избавленными от угрозы. Но варвары, с которыми они имели дело, – беспокойные, алчные, не привязанные к родине, привыкшие кочевать без постоянного жилья, возя с собой все свое имущество и прельщавшиеся добычей, – не падали духом от неудач. Разбитые однажды, они возобновляли натиск. Именно этой тактикой, упорно и неуклонно применяемой, они в конце концов и разрушили Римскую империю.
Едва вернувшись домой, бораны стали готовиться к новому набегу. Они снова получили корабли от жителей Боспора и, прибыв к Фасису, сохранили их, чтобы обеспечить себе отступление в случае нужды. Сначала они напали на храм Дианы, находившийся в этих краях, и на царский город Ээта, отца Медеи, столь известный в мифах. Отраженные с потерями, они не отчаялись и подступили к Питиунту. К несчастью, Сукцессиана там уже не было. Валериан, вынужденный противостоять персам, прибыл в Антиохию и вызвал к себе этого военачальника, назначив его префектом претория и желая воспользоваться его советами в ведении войны на Востоке. Питиунт был плохо защищен: бораны взяли его сходу, разграбили и, завладев кораблями в порту, увеличили свой флот. Затем они снова вышли в море и, продвигаясь вперед, приблизились к Трапезунду – мощному городу, обнесенному двойной стеной и имевшему гарнизон численностью более десяти тысяч человек.
Варвары, не имевшие никакого понятия о столь сложном искусстве осады, никогда бы не взяли этот город. Они даже не мечтали об этом, как говорит историк. Однако беспечность гарнизона доставила им успех, превзошедший как их ожидания, так и их силы. Римские солдаты и офицеры, уверенные в своем превосходстве и презиравшие неискусность врагов, несли службу небрежно, не принимали никаких мер предосторожности и думали только о развлечениях и пирах. Бораны, узнав об этой беспечности, ночью взобрались на стену и внезапно овладели Трапезундом. Гарнизон, столь же распущенный, сколь и плохо обученный, бежал через ворота, ведущие вглубь страны, и оставил жителей на милость победителей. Добыча была огромной. Город сам по себе был богат, а из всей округи в него, как в надежное убежище, свозили все ценное. Бораны воспользовались этим: разграбив и опустошив город, они распространили свои набеги и вглубь страны, как видно из канонического послания святого Григория Чудотворца, тогда епископа Неокесарии. Они унесли с собой богатства Понта, погрузили их на корабли и с триумфом вернулись домой.
Такой счастливый успех стал мощной приманкой для других скифских народов, соседей боранов. Эти народы, решив последовать столь полезному примеру, собрали сухопутное войско и флот. Для постройки кораблей, правила которой они не знали, они воспользовались помощью римлян, оказавшихся среди них – либо как пленные, либо привлеченные торговлей [6]. Что касается направления их похода, то, поскольку восточное побережье Понта уже было разграблено боранами и, следовательно, не сулило богатой добычи тем, кто пришел после них, упомянутые здесь скифы повернули на запад. В начале зимы они, вероятно, выступили из окрестностей Танаиса. Флот и сухопутные войска, двигаясь согласованно, шли вдоль всего западного побережья Эвксина. Можно предположить, что сухопутные силы перешли Дунай по льду, и именно для этого была выбрана зима как время отправления.
Достигнув Византия, они оставили этот город, показавшийся им, видимо, слишком укрепленным и, возможно, слишком хорошо охраняемым; однако они переправились через пролив – частично на своих кораблях, частично на лодках, собранных вдоль побережья, особенно в большом болоте неподалеку от Византия, – и, высадившись в Азии, захватили Халкидон. В этом городе гарнизон превосходил численностью нападавших, но ужас перед варварами был так велик, что римские солдаты позорно бежали, даже не увидев врага. Скифы вошли в Халкидон без сопротивления, и легкость победы, а также добыча, которую они там захватили, воодушевили их и усилили алчность.
Затем они двинулись к Никомедии, куда их звал предатель, названный Зосимом Хризогоном. Захват этого города не потребовал от них больше усилий, чем взятие Халкидона, и добыча была бы гораздо богаче, если бы жители, предупрежденные о приближении варваров, не бежали, унося с собой все, что смогли спасти из своих сокровищ. Тем не менее скифы нашли здесь достаточно, чтобы удовлетворить свою жадность, и, продолжая разбойничьи набеги, они разграбили также Никею, Кий и Прусу. Они хотели продвинуться дальше и дойти до Кизика, но внезапно разлившийся от дождей Риндак остановил их. Они повернули назад, сожгли Никомедию и Никею, которые сначала лишь разграбили, и, вернувшись к морю, погрузились на корабли и увезли всю добычу в свою страну.
Разорение такой провинции, как Вифиния, и столь многих значительных городов без того, чтобы варвары встретили на своем пути или при отступлении какие-либо римские войска, безусловно, не делает чести правлению Валериана и слишком ясно свидетельствует о нерадивости и медлительности, в которых его обвиняют историки. Этот император все еще находился в Антиохии. Он послал Феликса для защиты Византия, сам двинулся в путь и дошел до Каппадокии, где, узнав, по-видимому, об отступлении скифов, вернулся, не совершив ничего, кроме причинения множества неудобств и ущерба жителям земель, через которые проходил.
К набегам варваров, опустошавших лучшие провинции империи, добавилось еще одно бедствие – чума, которая уже несколько лет подряд свирепствовала в городах, деревнях и армиях. А чтобы довершить бедствия римлян, Валериан нашел позорный и трагический конец в войне с персами.
После побед, одержанных Гордианом III над персами, и мира, заключенного с ними Филиппом, между двумя империями не было открытой войны. Впрочем, это не значит, что Шапур строго соблюдал мир. Упоминается о возобновлении этим царем враждебных действий против римлян еще во времена Галла. Зонара сообщает о Тиридате, царе Армении, свергнутом тогда персами и собственными сыновьями, перешедшими на сторону врагов. Но именно при Валериане, с помощью предателя Кириада, Шапур сбросил маску и разжег войну с новой силой.
Кириад, сын отца того же имени, который, должно быть, был знатным сирийским вельможей, навлек на себя его гнев своим дурным поведением и безумной расточительностью, обокрал его, похитил большое количество золота и серебра и бежал на земли персов. Он явился ко двору Шапура и убедил его напасть на римлян, без сомнения указывая, насколько благоприятен момент для предъявления старых претензий к империи, которой сейчас правит слабый император, разоряемая со всех сторон варварами. У него самого были в этом деле свои интересы и расчеты, как покажет дальнейшее. Честолюбие Шапура сделало его восприимчивым к подобным предложениям. Он выступил в поход, возможно, воспользовавшись связями, которые Кириад сохранил на землях, подвластных Риму. Он вторгся в Месопотамию, захватил Нисибис и Карры, проник в Сирию и взял Антиохию врасплох.
Жители этого великого города меньше всего ожидали такого несчастья. Поглощенные любовью к удовольствиям и зрелищам, они в тот момент находились в театре, развлекаясь представлением мима и его жены, разыгрывавших для них фарс. Вдруг жена мима, обернувшись, воскликнула: «Или мне снится, или это персы!» Действительно, те уже ворвались в город, и им не составило труда захватить его, совершенно не готовый к обороне. Они разграбили Антиохию и ее окрестности.
После этого завоевания персы могли бы легко распространиться по Малой Азии и подчинить ее. Но их армия была отягощена огромной добычей, и они сочли разумным сначала увезти ее в свою страну.
Кириад, усугубивший все свои преступления отцеубийством, – предатель родины, убийца отца, – наконец, пожелал воспользоваться плодами своих злодеяний. Оставшись в Сирии, он присвоил себе титул Цезаря, а затем и Августа. Но этот блеск, купленный столькими ужасами, был недолгим. Пробыв у власти чуть более года, Кириад был убит своими же. Если допустить, что его имя должно быть заменено в тексте Аммиана Марцеллина на имя Мареада, которое близко по звучанию и, возможно, является искажением, то в таком случае сами персы могли покарать предателя, воспользовавшись его предательством. Марцеллин утверждает, что Мареад, гражданин Антиохии, впустивший их в город, был ими казнен через сожжение.
Кириад уже не было в живых, когда Валериан, вызванный на Восток войной с персами, прибыл в Антиохию. Его первой заботой стало восстановление этого города, который враги в значительной части разрушили: и, по-видимому, именно за это благодеяние на некоторых медалях он удостоен титула – столь мало подходящего к его несчастной судьбе – «восстановителя Востока».
Валериан провел на Востоке весьма долгое время, и мы не можем сказать, чем он там занимался до своего последнего поражения. Все, что нам известно, сводится к восстановлению Антиохии, о котором мы только что упомянули, и к запоздалому движению, которое он предпринял, чтобы изгнать из Вифинии скифов, – но те покинули ее еще до его прибытия в Каппадокию.
Наконец, вынужденный идти на помощь Эдессе, осажденной Шапуром, и ободренный стойким сопротивлением гарнизона этого города, Валериан перешел Евфрат и вступил в Месопотамию. Он дал сражение, которое для него окончилось неудачно. Вину за это возлагают на предательство военачальника, которому император полностью доверял и который злоупотребил этим доверием, заманив его в такое место, где ни доблесть, ни строй римских войск не могли принести никакой пользы. Этим военачальником, без сомнения, был Макриан, о котором нам еще представится случай подробно поговорить.
Валериан, чья природная робость еще усилилась после поражения, отправил к Шапуру послов с просьбой о мире, будучи готов купить его большой суммой денег. Шаур, замысливший вероломство, отослал римских послов, заявив, что желает вести переговоры лично с императором. Валериан оказался настолько неосмотрительным, что отправился на встречу без надежной и сильной охраны, и персы, воспользовавшись его глупой доверчивостью, внезапно окружили его и взяли в плен. Вот что нам представляется наиболее правдоподобным и лучше всего подтвержденным касательно этого печального и позорного события, дату которого, следуя г-ну де Тилемону, мы относим к 260 году от Р. Х.
Всем известно, каким унизительным и ужасным обращением подвергался этот несчастный государь во время долгого плена. Его покрыли большим позором, чем самого низкого раба. Его надменный победитель повсюду таскал его за собой в оковах и в то же время облаченного в императорскую пурпуру, чей блеск лишь усугублял горечь его положения. А когда Шапур хотел сесть на коня, несчастный Валериан должен был наклоняться до земли, чтобы его наглый господин, поставив ногу ему на спину, использовал его как подставку. Часто к этому жестокому унижению варварский царь добавлял еще и оскорбительные слова, насмешливо замечая, что это и есть настоящий триумф, а не просто изображение триумфа, как у римлян.
Вершиной несчастий Валериана стало малодушное и преступное равнодушие неблагодарного сына, который, восседая на троне цезарей, оставил своего отца в столь плачевном состоянии, не предприняв ни малейшей попытки его спасти. Единственным знаком внимания, который Галлиен ему оказал, было причисление его к лику богов на основании ложного известия о его смерти. Причем замечают, что это было сделано против его воли и лишь для удовлетворения желания народа и сената, – он воздал отцу этот предписанный обычаем почести, столь же пустые сами по себе, сколь нелепые и неуместные в данных обстоятельствах.
Позор пленного императора не окончился с его жизнью. Он томился в этом ужасном рабстве по меньшей мере три года, а некоторые говорят, что до девяти. И когда он умер, Шапур приказал содрать с него кожу, выкрасить ее в красный цвет, набить изнутри соломой, чтобы сохранить человеческую форму, и в таком виде повесить в храме как вечный памятник позора римлян. А когда к нему прибывали послы из Рима, он показывал им это унизительное зрелище, чтобы они научились смирять свою гордыню.
Все христианские авторы рассматривали ужасную катастрофу Валериана как следствие Божественного возмездия за кровь праведников и святых, которую этот император, в остальном склонный к доброте, жестоко пролил.
Я говорю, что он был добр по характеру, и тому доказательством служат различные его письма, сохраненные писателями «Истории Августов» в жизнеописаниях Макриана, Балисты, Клавдия II, Аврелиана и Проба. Везде мы видим государя, отдающего должное заслугам с прямотой и чистосердечием. Порой в нем даже проявляются героические чувства, достойные древних времен Рима. Приведу лишь один пример, касающийся Аврелиана.