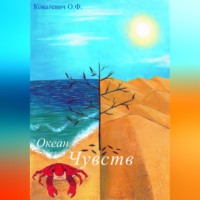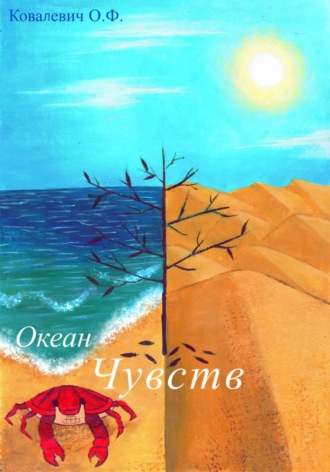
Полная версия
Океан чувств

Ольга Ковалевич
Океан чувств
Предсмертная исповедь Софьи.
О Господи, как краток путь земной…
Свечу мою задуть стремится ветер…
Молю, ты смерть не посылай за мной,
Пока во мне нуждаться будут дети.
Шёл тысяча девятьсот шестьдесят первый год. Софье исполнилось тридцать девять лет. И она родила. Это был седьмой по счёту ребёнок. Всех шестерых рожала с трудом, в муках, но сама и дома. Благо, бабка-повитуха жила в десяти минутах ходьбы. А вот эти роды, последние, оказались для неё самыми сложными и роковыми. Когда поняла, что родить сама не сможет, попросила мужа, чтобы отвёз в районную больницу. Но и там врачи не могли оказать нужную медицинскую помощь: требовались хирургическое вмешательство и опытные хирурги. Срочно отправили в областной родильный дом. Операция прошла успешно. Девочка родилась доношенной, крепенькой, здоровой. Решила назвать её Людмилой в честь женщины-врача, проделавшей сложную операцию и спасшей им обеим жизнь – ей и дочери.
Тревога, что с её здоровьем что-то не так, закралась в душу, когда не смогла встать после родов с постели ни на вторые, ни на пятые, ни на десятые сутки. Чувствовала, что жизненные силы покидают её, и что смерть находится совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Теперь ей стали понятны и очень близки слова, которые говорила её мама про умирающего от тифа брата: «Тает на глазах!». Исхудавшее тело, впавшие глаза, заострённый нос, тёмная, как воронка, бездна в глазах – всё, что осталось от первой когда-то в округе красавицы и певуньи Сонечки.
Прошло пять месяцев. Из больницы, в которую перевели Софью Кондратьевну после родильного дома, выносили только вперёд ногами: врачи не умели лечить эту «плохую» болезнь, лекарств от неё не изобрели. Она знала об этом. И смирилась с неизбежностью. Ей только оставалось уповать на Господа, чтобы он хранил её пятерых малолетних детей.
Умирать поехала домой, врачи не могли отказать ей в этой просьбе. На дом пригласили батюшку, который с трудом узнал в лежащей на кровати маленькой, худенькой, измученной болезнью женщине свою прихожанку.
От некогда молодой, сильной, цветущей красавицы осталась только тень. Слабым голосом, часто останавливаясь, чтобы передохнуть и набраться сил, угасающая, как свеча, женщина спешила рассказать священнику о своём жизненном пути и покаяться:
– Задолго до моего рождения два моих старших брата женились и уже имели детей. Отец и мать всю жизнь мечтали о дочери. Господь услышал их молитвы и на старости лет подарил им меня. Я была поздним и любимым ребёнком. Любили они меня очень сильно, баловали, многое прощали. Помогали мне во всём и всегда до конца своих дней.
Очень радовались моему первому замужеству. Мы с Василием были красивой парой. Только вот любовь наша была крепкой, да недолгой. Мы даже не успели натешиться друг другом: нас разлучила война. Сегодня наша дочь взрослая, вышла замуж. Но она никогда не видела и не знала своего отца. Он погиб в первые дни войны…
Годы оккупации были страшными, голодными и очень-очень долгими. Мы жили как бы между молотом и наковальней. Ночью приходили партизаны. Они были свои. И мы помогали им, чем могли: пекли хлеб, вязали носки, варежки.
Отец был кузнецом. К нему партизаны обращались с просьбами чаще всего – то подковы для коней сделать, то колёса у телеги поправить… Днём приезжали и действовали оккупанты. У населения отнимали всё: продукты, одежду, скотину. У того, кто не хотел отдавать добровольно, отбирали силой, а то могли и расстрелять. Так часто бывало.
Хорошо помню первую встречу с немцами. Было много шума и пыли. Они въехали на тарахтящих на всю округу мотоциклах с колясками: здоровые, сытые, довольные. Остановились около хаты деда Трофима. Он сидел на скамеечке и с любопытством разглядывал приезжих. Вышли, стали показывать на босые ноги девяностолетнего старца, смеяться, гоготать, разглядывать и щупать льняные портки и рубаху деда. Затем бесцеремонно схватили его под мышки и потянули к лежащему невдалеке камню-валуну. Посадили старика на этот камень, окружили его и стали с ним фотографироваться. Им было весело, выглядели довольными, весёлыми, счастливыми. А почему бы и нет? Ведь они – победители.
Взрослые смотрели на незваных гостей с недоверием и осторожностью. Зато детишек было не удержать. С криком «Немцы! Немцы приехали!» они, как горох, высыпали на улицу. Те же, довольные и улыбающиеся, стали бросать в детскую стайку горстями конфеты в ярких обёртках. Ребятишки ловили их на лету, а упавшие на землю сладости искали руками в пыли. Оккупанты смеялись, фотографировали детей. И всем показалось на какое-то мгновение, что не такие они уж и страшные эти немцы, как о них говорят…
Чуть позже мы узнали на своей шкуре, что такое фашизм. Каратели приехали на грузовике рано утром. Нас, жителей деревни, согнали во двор начальной школы. Толстый немец-переводчик объявил о том, что у нас теперь не советская, а немецкая власть, и что мы должны жить по их законам. Потом была казнь. Публичная. На наших глазах расстреляли молодую пару, мужа и жену. До войны они работали в нашей школе учителями, учили детей грамоте. Они были совсем молоденькие, может, лет по двадцать и было им.
Их поставили на крыльце на колени. Один фриц подошёл и выстрелил в голову сначала ей, потом ему. Было жутко! Даже вспоминать страшно. Не дай Боже такое больше никому увидеть пережить. И за что расстреляли-то? За то, что были комсомольцами. Тела убитых повесили на старой берёзе, что росла во дворе школы. Для устрашения. Чтобы знали, что так будет с каждым, кто не будет повиноваться новой власти.
Чуть позже молодых парней и девушек стали хватать и угонять в Германию, в рабство. И вот теперь, когда мы слышали издалека доносящийся шум моторов или тарахтение мотоциклов, и старый, и малый разбегались врассыпную и прятались, где только могли: в болоте, в лесу, в картофлянике, в подвале, в сарае, в подполье…
В один из таких дней я успела спрятаться на чердаке в сене. Моя же четырнадцатилетняя племянница Любушка шла к нам огородами. Но, увидев, что во дворе хозяйничают каратели, побежала в сторону болота. Её заметили. Три эсэсовца побежали за ней. Я с тревогой наблюдала за происходящим через чердачное отверстие. Мне было видно всё как на ладони
Вот фашисты, как гончие, несутся за своей добычей. Догоняют её, толкают в спину, она падает. Начинают бить, пинать хрупкое тельце девочки своими сапожищами. Били изо всей силы, грубо, жестоко, чтобы насмерть. Особенно усердствовал один здоровяк с квадратным лицом и звериным оскалом. Потом её насиловали все трое, по очереди. Не было человеческих сил на всё это смотреть.
Но я ничем не могла ей помочь: у нас в доме и во дворе хозяйничали немцы. Сквозь слёзы, закусив руку, чтобы не закричать и не выдать себя, силой воли заставляла себя смотреть на происходящее. Я говорила себе: «Смотри, Соня, смотри! И запомни! На всю жизнь запомни! Чтобы отомстить!»
Душераздирающий крик Любаши до сих пор звенит в ушах. Он мучал и не давал мне покоя всю оставшуюся жизнь. И эта картинка, как эти изверги тянут нашу кровинушку за ноги к нам во двор. И контрольный выстрел в голову. И их весёлый хохот после этого… Нелюди!
Столько лет прошло! А забыть морду этого негодяя не могу: высокий, здоровый, белобрысый, с автоматом через плечо, с закатанными, как у мясника, рукавами. Как будто вживую вижу эти противные конопушки и рыжие волосы на руках, и этот звериный взгляд Любушкиного убийцы…
Вот тогда, когда я, сидя на чердаке, кусала до боли, чтобы не закричать, руки, в моей душе всё перевернулось. Батюшка, я знаю, что это большой грех. Но в моей душе появилась ненависть, лютая ненависть к фрицам!!!
После похорон Любочки я решила уйти в лес, к партизанам. Малолетнюю дочь оставила с родителями. Они не перечили мне. Понимали, что я не могу поступить иначе.
Оружием овладела быстро. Особенно стрельбой из винтовки. Когда наводила мушку на голову врага, то представ-ляла убийцу Любушки из карательного отряда с квадратным лицом и со звериным оскалом. И рука не дрогнула. Ни разу.
Так я стала лучшим стрелком в партизанском отряде, а перед лицом Бога нашего я – хладнокровный убийца. Знаю, что нарушила много-много раз заповедь Господа «Не убий!» Это смертный грех, я знаю. Женщина должна давать жизнь. Я же её отнимала. Молитесь за меня, батюшка, пусть Господь простит мою душу грешную.
Там, в партизанском отряде, встретила свою вторую большую любовь. Его звали Ефимом. Он был подрывником. Я стала его боевой подругой и женой. Мы не были с ним расписаны, нас повенчала война. Время было такое, военное. Каждый день проживали как последний в своей жизни.
Однажды он не вернулся с задания. День смерти Ефимушки стал днём рождения нашего сына Виктора. До нашей победы нужно было прожить ещё год. Когда война закончилась, вернулась с сынишкой домой. Деревню сожгли фашисты. Родители с моей дочуркой, как, впрочем, и все односельчане, жили в землянке. Через три года мы перебрались в маленький домик, который построил отец.
Эти первые послевоенные годы были очень тяжёлыми и голодными. Помнится одно: «Очень хочется кушать! Всё время хочется есть!» Весной мы варили суп из лебеды и крапивы. Ещё собирали на поле мёрзлую картошку и делали из неё оладьи, называли их пышками. Нам казалось, что вкуснее на свете ничего нет, чем эти пышки из мёрзлой картошки.
Из плена вернулся младший брат Алексей. На фронт мы отправили его молодым, красивым, здоровым. Домой же вернулся не мужчина, а развалина. По виду было понятно, что не жилец. Душа в нём еле тлела. Он был слаб и болен, как потом оказалось, тифом. Через пару дней тиф свалил и меня. Брат сгорел быстро.
Когда мне было совсем худо, и смерть уже стояла у моего изголовья, мама, мой земной Ангел, продолжала молиться днём и ночью вот у этой иконы Божьей матери. Это наша семейная икона. Она простенькая, старенькая, ей много-много лет. Моей маме досталась она от бабушки. Произошло чудо. Слава Богу, я выжила
И знаете, батюшка, каким чудесным образом Господь спас меня и мою семью от голодной смерти? Он вернул домой нашу давно пропавшую кошку Марго. Кошка вернулась домой в тот день, когда я пришла в себя, и положила к ногам мамы полевую мышь. Мяукнула и убежала. Потом вернулась с ещё одной мышью. И опять положила её к ногам мамы. Так повторилось несколько раз в тот день и во многие последующие дни. Марго уходила на охоту, а свою добычу клала к ногам мамы.
После тифа на меня было страшно смотреть, настолько я была истощена. У меня даже не было сил открыть глаза, пошевелить пальцем. Чтобы выжить, нужно было хоть что-нибудь есть. А кушать было нечего, свирепствовал страшный голод. И вот тогда мама стала варить бульон из полевых мышей. Этим бульоном кормила семью и поила меня. Вот так мы и выжили.
Потом, чуть позже, отец раздобыл козочку. Её целебное молоко помогло мне встать на ноги. Так Господь, мои дорогие родители и кошка Марго вернули меня к жизни.
Государство, как вдове и партизанке, помогало. Мне дали делянку под вырубку леса на постройку дома. Отец и оставшийся в живых старший брат помогли поставить сруб, крышу накрыли ржаной соломой. Стали искать печника. А где его найдёшь, если война всех мужиков повыбивала?!
С трудом, но всё-таки мы его нашли. Это был немолодой мужчина лет сорока пяти. Вдовец: вся его семья, жена и двое детишек погибли во время бомбёжки. Жил бобылём, где клал печь, там и столовался.
Приглянулась я ему. Стал замуж звать. Но моим родителям Фёдор не понравился. Отец был непреклонен: «Пришлый, не знаем, что он за человек; да и потом, за тебя на шестнадцать лет старше; ко всему, ещё и безбожник, ни одной молитвы не знает, даже «Отче наш». Не даём мы тебе родительского благословления…» Говаривали: «Теперь тебе, дочка, только жить да жить: войны нет, дом почти построили, и печка в нём есть, детки твои подросли. Живи, радуйся! Расти своих деток! Старые мы совсем. Дай нам спокойно свой век дожить! А что если и не так, так государство поможет. Как не говори, вдова, партизанка».
Мне бы послушаться их, ведь они были старше и мудрее меня, никогда не желали зла. Наоборот, очень сильно любили, даже чересчур сильно любили. Но я ослушалась моих родителей, моих земных Ангелов- хранителей. Я рассудила так: «Какой-никакой, а мужчина в доме. Вон сколько после войны соломенных вдов! А сколько молодых и незамужних девушек! А где взять мужиков? Нет их. Всех война выкосила. Одни старики да подростки. А наш бабий век короткий. Буду жить, как набежит. Может, даже со временем и полюблю. А то, что старше, так это, быть может, и хорошо: заменит детям отца…»
Прожила с Фёдором десять лет. Жили по-всякому. Бывало, что и ссорились, не без этого. Но потом быстро мирились. Каждые два года рожала детей. Слышала, как моя мамка говорила однажды соседке, когда я ходила беременной последний раз: «Не жалеет Фёдор нашу Соньку! Вон снова опять брюхатая ходит! Как ей такую ораву на ноги поставить?! И помощи от него никакой! Весь дом на себе тянет!»
Ничего не говорила матери. А и что сказать?! Всё это было, конечно, правдой. Влипла я со своим этим замужеством, как пчела в сироп.
Я говорила Вам, батюшка, что на моей совести много убитых немецких солдат. После войны я сама для себя решила, что, если у меня будет шанс выйти замуж, то я это сделаю и буду рожать столько детей, сколько даст мне их Господь. И Фёдор здесь ни при чём! Вынашивать, рожать детей в тяжёлых муках, поднимать их на ноги в нищенских условиях – мой земной крест. Только так, наверное, можно вымолить прощение за убитые мною человеческие души.
На войне моего Фёдора трижды контузило. Поэтому с головой у него время от времени не всегда всё было в порядке. И жить с ним было очень несладко. Бывало, если что-то сделаешь не так, как ему хочется, его мозги «заклинивало», он просто становился бешеным. С криками «Смерть немецким оккупантам! Души эту суку! Бей фашистскую гадину! Дай этой сволочи под дых!..» он начинал бить и крушить всё, что под руку попадётся
Справиться с ним в такие минуты мог только мой отец. Папа был двухметрового роста и от природы очень сильным и выносливым мужчиной. Он под-бегал к Фёдору сзади, заламывал ему руки назад, связывал их лейцами, ноги тоже связывал. И только после того, как выливал на него пару вёдер холодной колодезной воды, Фёдор приходил в себя.
Но пришло время, и мои родители умерли: сначала мама, а через пару месяцев и папа. Так я осталась без отцовской защиты.
Вы же знаете, батюшка, что деревенским людям не дают паспортов, чтобы в город не подались работать. Там зарплату каждый месяц выдают. А мы в колхозе целый год работаем, наш бригадир отмечает трудодни. И только два раза в году за эти трудодни нам выплачивают деньгами.
Вот и в этом году дали деньги в середине февраля, а через недельку у моей старшей дочери был день рождения, ей исполнилось 18 лет. А ещё через недельку она выходила замуж. Ко дню рождения я купила ей комбинацию и ручные часики, а на свадьбу решила подарить на память швейную машинку «Зингер». Мужу купила пиджак с цигейковым воротником. На покупки себе и малолетним детишкам денег не хватило.
Когда Фёдор увидел покупки и понял, что денег не осталось, и что ещё полгода мы их не увидим, его «заклинило». Увидев перекошенное от ярости лицо мужа, его звериный взгляд, пустые безумные глаза, услышав дикий рёв, поняла, что в него снова вселился бес, снова на него «нашло», и что нужно спасаться бегством.
А далеко ли может убежать беременная на сносях женщина с огромным животом? Нет. Вот и я успела добежать только до калитки и схватиться за неё: дикая резкая боль полоснула внизу живота. Потом был сильный толчок в спину. Муж бил меня ногами. А я скрутилась в комочек, обхватила руками живот и только помню, всё кричала: «Федечка! Только не бей в живот! Не убивай ребёночка! Не бей в живот, Федя-я-я-я!»
Так и зашиб бы насмерть меня с дитём малым, если бы в хате была. А так на улице детишки играли, крик подняли, сбежались односельчане, чуть оттянули от меня одуревшего от ярости мужа.
Месяц не могла прийти в себя, на теле от побоев не было живого места, долго лицо и тело были чёрными, как уголёк, а глаза от кровоподтёков красными. Хорошо, что хоть кости целыми остались. Но это не самое страшное, батюшка. Он бил по животу. Отбил матку. Потому и родить не смогла сама, потому и рак.
Теперь вот лежу и исповедуюсь перед Вами, батюшка. Знаю, что Господь меня наказал. Говорил мне папка: «Не выходи за него, дочка, погубит этот бесноватый тебя!» «Почитай отца и мать твоих, – гласит пятая заповедь. – И тогда будешь жить долго и во здравии». А я? Почитать – значит уважать мнение родителей, слушаться их. Я же ослушалась. И искренне раскаиваюсь в этом.
Помолитесь, батюшка, после моей кончины за меня грешную. Упросите Боженьку простить мои грехи вольные и невольные, попасть моей душе в царствие небесное. Пусть пожалеет моих деток, сирот малолетних; моя слезой омытая молитва пусть сбережёт их от зла и станет для них оберегом.
Очень хочется жить, батюшка. Так хочется, что вам не рассказать! Я ведь толком и не жила. Всю жизнь, считай, в обнимку со смертью ходила. Сколько раз моя жизнь висела на волоске! За свой короткий век, считай, не одну, а несколько жизней прожила. И Бог меня до сих пор хранил!
Последний рассвет бабьего лета.
За всё, что было, говорю: «Спасибо!»
Всему, что будет, говорю: «Держись!»
Престолы счастья и страданий дыбы:
Две стороны одной медали – «жизнь»!
Ю. Друнина
Этот рассвет для Софьи Кондратьевны был последним. Говорят, перед кончиной боли уходят, человек чувствует облегчение и просветление. И это правда. Сонечке ничего не болело. Она смотрела в окно на восходящее тёплое осеннее солнышко и философски рассуждала про себя о жизни: «До чего же Господь разумно сотворил этот ми
Взять хотя бы солнце. Оно обогревает землю своими золотыми лучика-ми целую весну, лето, осень. И дарит свой свет, своё тепло, жизнь всем божьим созданиям. Просто так, ничего не тре-буя взамен. И всё живое просыпается, тянется вверх, растёт, цветёт, плодоносит. А затем небесное светило уходит на покой. Но перед тем, как уйти на заслуженный отдых на долгую зиму, солнце дарит нам напоследок золотую пору «бабьего» лета с её последними тёплыми денёчками, последними яркими красками, многоцветную, царственно спокойную. Она ставит как бы красивую точку, говоря нам: «Я ухожу на покой. Но в свой срок я снова вернусь, и начнётся новый виток жизни…»
Так и женщина-мать, подобно солнцу, тоже дарит жизнь. На то, чтобы выносить, родить, вырастить, воспитать детей, у матерей уходит вся жизнь. И всё, что она, Соня, делала для своих детишек, она делала бескорыстно, любовь её к ним была бесконечна и не знала границ. И когда в жизни любой матери, как у неё сейчас, наступает короткая пора «бабьего» лета, нужно понимать, что таковы законы природы.
Да, будет зима. Но за ней начнётся пробуждение и возрождение. И эта новая жизнь будет лучше. А если это так, значит, она прожила свою жизнь не зря. Пусть горькую, пусть суровую, пусть голодную, пусть нищую, пусть короткую, но не пустоцветом.
И, несмотря ни на что, она имела счастье быть матерью, чувствовать, как зарождается под сердцем новая жизнь, давать эту жизнь, продлевать жизнь любимых мужчин через жизнь их детей, видеть первые шаги своих малюток, радоваться их первому зубу, первому шагу, первому слову. Имела счастье пройти этот путь материнства семь раз.
Возможно, это не так уж и много. Но и не так уж и мало. И от такого осознания у Софьи возникло ощущение и понимание того, что заканчивается всего лишь её жизненный путь.
Да, она уходит. Но не вся. Частичка её на этой земле всё-таки останется. Останется в детях, даст Бог – останется во внуках, правнуках. Батюшка говорил, что человек покидает земной мир дважды: первый раз умирает его физическое тело, а второй раз смерть приходит тогда, когда о нём не вспоминает на земле ни одна живая душа. А раз так, значит, она не будет забытой на этой земле ещё очень долго, её жизнь продлится в памяти потомков о ней.
Фёдор и звериный оскал прошлого.
Жизнь Фёдора не баловала. Его отец погиб в первую мировую войну. Матери пришлось поднимать одной троих детей – Захара, Фёдора и Евдокию. Рано пришлось познать и холод, и голод. Грамоту изучал, будучи уже подростком, после революции 1917 года, когда государство ликвидиро-вало всеобщую неграмотность населения. Затем – служба в рядах Красной армии, долгие годы работы простым рабочим в шахтах Донбасса, женитьба, рождение двух дочурок. Была нормальная мирная жизнь, пока не началась война.
Призвали на фронт, воевал. При жизни узнал, что такое ад на земле. И несмотря на то, что был трижды контужен, его сослуживцы считали, что он «родился в рубашке», потому что после множества ранений «выкарабкивался» из них очень быстро, на нём заживало всё, как на собаке. И потом, пройти всю войну пехотинцем и остаться в живых, с целыми руками и ногами, это не чудо ли? Как рабочему человеку жить без рук?! Никак. Особенно после войны.
Так что иметь руки – большое счастье. Особенно, когда они умели что-либо делать. А руки Фёдора умели класть печи. И умели это делать хорошо. О нём говорили: «Печник от Бога». Война отняла всех, кого любил, и кто так был дорог сердцу.
Мамы не стало в 1943 году: фашисты сожгли её вместе с другими жителями деревни в одном из деревенских сараев. От хаты, где находились жена с дочками, осталась только глубокая воронка от немецкой бомбы. И как пелось в песне тех лет: «Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою?» Ни дома, ни семьи, даже могилок их не было, куда можно было бы прийти, поклониться, выговориться да выплакаться.
После войны вся страна была в руинах. Благо, спрос на печников был огромный. Не остался без работы и Фёдор. Где клал печи, там и был его кров, там же его и кормили. Долго жил бобылём: нужно было время, чтобы отвыкнуть от войны и привыкнуть к мирной жизни, нужно было время, чтобы «зализать» душевные раны от утраты родных и близких сердцу людей.
Через шесть лет таких скитаний по чужим хатам судьба привела его в дом Софьи – тридцатилетней вдовы. Статная, красивая, хозяйственная. За что ни возьмётся – в её руках все спорится. И до чего ж остра на язык! А какая певу-нья! Но не это главное. Просто была в этой женщине некая магическая, внутренняя сила, которая прямо привораживала, примагничивала к ней мужчин. Для многих она так и осталась загадкой, «неразделённой любовью», «несбывшейся мечтой» до конца их дней. Ему повезло, она выбрала его.
Почему его? Да кто его знает? Может, потому что оба пережили много горя и понимали боль утраты? Она была вдовой. Дважды. Он никогда её не спрашивал о прежних мужьях, она же не лезла в его душу с расспросами о его погибшей жене и дочках.
Прожил с Соней десять лет. И эти годы были для него счастливыми. Её родители вначале были против их совместной жизни. Но когда пошли один за другим рождаться детишки, смирились.
И всё было бы хорошо, если бы не последствия контузий. Война не отпускала его, «догоняла» снова и снова. Время от времени в его голове появлялись картинки самого страшного рукопашного боя в его жизни. В том бою фашистов, казалось, было больше, чем звёзд на небе. Били их наши, били, а их меньше не становилось. У нас снаряды закончились, патроны закончились. А они, как тараканы, лезли и лезли.
Тогда, доведённые до отчаянья, наши солдаты пошли в рукопашный бой. Зрелище было страшное. На грани человеческих возможностей наши крушили и «сметали» на своём пути всё, немцев «рвали», душили, убивали шты-ками. Стоял дикий мужской рёв, страшная матерщина.
Каждый раз, когда в голове появлялись картинки того боя, ему казалось, что это происходит с ним наяву. И Фёдор снова и снова «шёл врукопашную», круша и громя фашистов. И силы у него в этот момент было немеряно, за десятерых. Изнутри его вырывался дикий рёв зверя, лицо искажалось страшной гримасой.
Наяву это выглядело неприглядно: здоровый пятидесятилетний мужчина с искажённым от злобы лицом бегает по полю и с дикими воплями «Удушу гада!», «Врёшь, не возьмёшь!», «Сдохну, а не сдамся!», «Бей фрицев!» бьет палкой по стогу сена; либо хватает топор и начинает рубить всё, что под руку попадётся; либо начинает пинать со всей силы ногами по мешку зерна, думая, что это немец.
Утихомирить его в такие минуты мог только тесть Кондратий Юрьевич, Сонин отец. Свяжет, на землю повалит, холодной водой обольёт. Фёдор ещё некоторое время подёргается, покричит, а потом приходит в себя. Жена успокоительными травяными чаями напоит – и всё проходит.