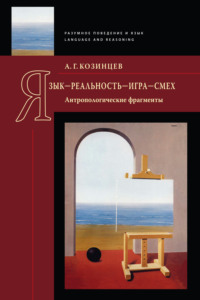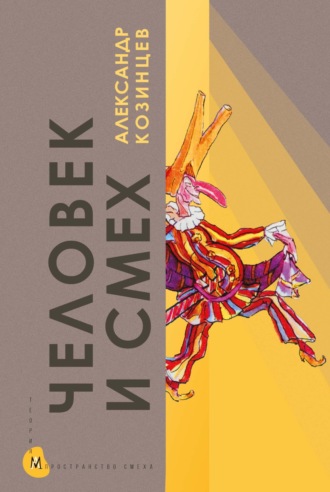
Полная версия
Человек и смех
Б. М. Эйхенбаум увидел такой ключ в гоголевском сказе (см. выше). Близкие идеи развивал В. В. Виноградов (Виноградов 1980/1925: 51–53), предложивший свою теорию сказа. Он писал о языковой (стилистической) маске автора, которая может быть неподходящей для него и даже уродливой, как в случае гоголевского Рудого Панька. В этом случае маска воспринимается как игровой сигнал и комический прием. Теорию маски как литературного приема в те же годы разрабатывал и И. А. Груздев (Груздев 1922). А спустя 60 лет термин «авторская маска» употребил (без ссылки на Груздева и Виноградова) К. Мамгрен по отношению к американским постмодернистским текстам (Malmgren 1985: 160, 164) [20].
В книге 1929 г. о Достоевском М. М. Бахтин показал, что смешение чужой и чуждой речи с собственной речью говорящего часто встречается и в литературе, и в жизни. Это явление он назвал «разнонаправленным двуголосым словом» и отнес сюда все разновидности пародии (Бахтин 2000/1929: 94–96). Одновременно и под его непосредственным влиянием В. Н. Волошинов (Волошинов 1993/1929: 146) писал о «запрятанной чужой речи», которая может «настолько… окрасить в тона героя авторский контекст, что он сам начнет звучать как „чужая речь“». Рассказ при этом ведется исключительно в пределах узкого кругозора героя. Такая речь является не столько средством референции к объекту (герою), сколько частью объекта. Иными словами, субъект (автор), прямо об этом не говоря, уступает свою повествовательную функцию объекту с пародийной целью. Прямой смысл подобного рассказа играет второстепенную роль, о чем писал и Эйхенбаум. Иными словами, говорить о семантике тут можно лишь в совершенно особом смысле. Так, весь «Скверный анекдот» Достоевского целиком «может быть взят в кавычки, как рассказ „рассказчика“, хотя тематически и композиционно не отмеченного… В каждом пошлом эпитете рассказа автор через medium рассказчика иронизирует и издевается над своим героем» (там же: 352, 354). Позже, развивая те же взгляды, А. К. Жолковский (Жолковский 1994) предложил термин «графоманство как прием».
Согласно современной нарратологии, сказчик присутствует в любом литературном произведении независимо от того, упомянут он или нет. «Первое, с чем согласится почти каждый современный специалист в области повествования, – это то, что нарраторов нельзя путать с авторами» (Abbott 2001: 63). «Повествование никогда не сводится к чисто миметической репрезентации. Нарратора нельзя считать отсутствующим, даже когда он едва заметен» (Herman, Vervaeсk 2005: 19).
Как ни удивительно, достижения нарратологии реже всего применяются как раз в той области, где потребность в них особенно велика,– в теории юмора. Анализируя тексты Оскара Уайльда и Альфонса Алле, С. Аттардо признает, что в литературном юморе присутствует неупомянутый нарратор, который «говорит вещи, кажущиеся читателю несуразными. Поэтому приходится либо допустить, что автор не справляется со своей задачей, либо постулировать имплицитного промежуточного автора, которого автор высмеивает» (Attardo 2001a: 164) [21].
Однако анекдоты Аттардо анализирует с противоположных позиций (Attardo 1994: 277–283). Он спорит с «теорией цитации», сформулированной Д. Спербером и Д. Уилсон по отношению к иронии (Sperber, Wilson 1986: 200–201, 240–241). «Теория цитации» гласит, что иронизирующий человек нарушает коммуникативные постулаты Грайса (особенно постулат качества) лишь для того, чтобы высмеять кого-то, на чью точку зрения он временно становится в полемических целях.
Но если ирония родственна пародии, о чем задолго до Спербера и Уилсон писал Бахтин (Бахтин 2000/1929: 91), а до него – Л. Шпитцер (Spitzer 1922: 175–176), то почему та же логика почти никогда не применяется к юмору? [22] Хотя в юморе нет полемики, и «неупомянутый сказчик» – фигура вымышленная, разве лишь спор может придать нашей речи двуголосие? Например, повторяя пошлости, произносимые героями анекдотов, мы можем сослаться на то, что эти слова принадлежат не нам (Yamaguchi 1988). Аттардо называет такую трактовку «слабой версией теории цитации» и отвергает ее, указывая, что рассказчик несет ответственность за рассказ и потому не имеет права прятаться за его героев. Но ведь бывает и «скрытая цитация» (Аттардо называет ее «цитацией нулевого уровня»). Это именно то разнонаправленное двуголосие, о котором писали Бахтин, формалисты, да и сам Аттардо при анализе литературного юмора. Допущение «нулевого уровня» он называет «сильной версией теории цитации», гласящей, что коммуникативные постулаты нарушаются не на том уровне, на который помещает себя говорящий [23]. Анализируя анекдоты, Аттардо отвергает и эту версию, поскольку, как ему кажется, «в тексте нет никакого следа отстранения говорящего от его высказывания». По Аттардо, говорящий сам нарушает коммуникативные постулаты. Поступая так, он переключается в «модус недобросовестной коммуникации». Если слушающий следует его примеру, коммуникация оказывается успешной, несмотря на нарушение коммуникативных постулатов.
Ситуация, надо признать, парадоксальная. С одной стороны, нарратологи в один голос утверждают, что рассказчик (упомянутый или неупомянутый) присутствует в любом литературном произведении и что его нельзя путать с автором даже в «добросовестных» текстах от первого лица, например в автобиографиях (Abbott 2001: 63), с чем, как будто, согласен и Аттардо (Attardo 2001a: 81, 164–165, 179). С другой стороны, сам он полагает, что при рассказывании анекдотов автор и скрытый нарратор (не тот, кто реально пересказывает анекдот, а тот, на чью точку зрения становится автор) – одно и то же лицо, какие бы глупости и пошлости это лицо ни изрекало.
Разрешение парадокса состоит, видимо, в том, что литература, как все признают, живет по собственным законам, а не по тем, которые Грайс сформулировал для бытового общения. Анекдоты же (и это тоже признают все) – жанр третьесортный, что якобы и оправдывает применение к ним норм повседневного дискурса. Да, юмор несерьезен по определению. Но значит ли это, что его можно изучать лишь в аспекте коммуникативных постулатов? Разве несоответствие анекдотов канонам серьезной литературы исключает применение к ним теории двуголосия (или, по Аттардо, сильной версии теории цитации)? На мой взгляд, дело обстоит как раз наоборот, ведь анекдот – квинтэссенция «воспроизводящего комического сказа».
Различие между двумя подходами («недобросовестная коммуникация» и «разнонаправленное двуголосие») может показаться чисто терминологическим. Если человек притворяется низшим Другим – остается ли он самим собою? Вопрос, на первый взгляд, кажется праздным, ведь ответ зависит от того, какой смысл мы вкладываем в слова «притворяться» и «оставаться самим собою». Дело, однако, не только в словах.
Комическое основано на притворстве, в этом не сомневается никто. Но о каком притворстве идет речь? Ведь и драматическое, и даже лирическое искусство – притворство, и вряд ли его можно назвать «добросовестной коммуникацией» в житейском смысле. Не всякое искусство отвечает высоким стандартам. Но художники, создающие серьезное искусство, по крайней мере стремятся к высоким стандартам, тогда как создатели комического искусства почему-то стремятся к низким. В этом и заключена главная тайна комизма. Согласно Аристотелю, сочинители комедий не только «изображают людей худших, чем ныне существующие», но и «подражают худшим людям» (Arist. Poet. II. 1448a. 16; V. 1449a. 32). Если допустить, что подражанием занимаются все причастные к комическому – не только актеры, но и авторы [24], – то получается, что «сильная версия теории цитации», прекрасно сформулированная С. Кьеркегором (см. параграф 1.1), восходит именно к Аристотелю. Но если юмор – разновидность того, что Бахтин назвал «разнонаправленным двуголосым словом», если он существует лишь в силу конфликта между автором и неупомянутым рассказчиком (т. е. ролью, которую играет автор и которая разительно отличается от его сущности), то уместен вопрос: что это за роль? Теория «недобросовестной коммуникации» не только не отвечает на этот вопрос, но и не ставит его.
Исследователи юмора обычно игнорируют разнонаправленное двуголосие комических текстов, их пародийность, конфликт между автором и его ролью. Одна из причин, видимо, в институционализации комического. Комедия – жанр, занимающий законное место рядом с трагедией. Анекдоты и карикатуры – тоже формы комического искусства. По правде говоря, не самые высшие формы; и тем не менее многие из них остроумны и художественны. Часто они кажутся реалистичными – иногда сатиричными, иногда безобидными, но совсем не пародийными. Мысль о том, что их создатели «подражали худшим людям» не только на уровне изображаемого, но и на уровне авторства, с трудом укладывается в сознании. Другая причина, в силу которой пародийность юмора игнорируется, состоит в том, что мы замечаем пародию, лишь когда она направлена на конкретный объект.
При ближайшем рассмотрении, однако, текст оказывается комическим лишь постольку, поскольку он двуголос и разнонаправлен, независимо от того, замечаем ли мы присутствие «неупомянутого сказчика» или нет и кем бы он ни был – самовлюбленным ничтожеством, как в «Скверном анекдоте», идиотом, как у Зощенко, циником, как у Жванецкого, психопатом, как в черном юморе, или пошляком, насильно вовлекающим нас, по словам К. И. Чуковского, в свойственные ему отношения к людям, вещам и событиям. Короче говоря, любой юмористический текст – одна сплошная цитата из неподходящего источника (о «скрытой цитатности» юмора см.: Curcó 1998; Kotthoff 2006).
Почему же десятки исследователей юмора во всем мире не замечают (или не хотят замечать) этого двойного дна, этой пародийности анекдотов, и исследуют их так, словно перед ними серьезные тексты? На чем основана наша уверенность в том, что пародировать можно только конкретные литературные произведения, причем только с целью их осудить? Но если признать, что, в сущности, любой комический текст неуместен и пародиен [25], то так называемая семантика юмора, неизменно понимаемая как отношение комического текста к внеязыковой действительности, предстанет в совершенно ином свете. Выясняется, что юмор, подобно пародии, направлен вовсе не на действительность, а исключительно на способ восприятия и осмысления этой действительности низшим Другим. Следовательно, адекватная теория юмора должна быть не семантической, а метасемантической. В такой теории повествовательная стратегия (жанр) и язык (стиль) – ресурсы знания, занимающие низшие места в «общей теории словесного юмора» С. Аттардо (Attardo 1994: 227; Attardo 2001a: 27–28), – окажутся самыми главными. Не в том дело, что анекдот имеет вид новеллы, загадки, диалога и т. д. и что в нем применяются те или иные стилистические приемы, а в том, что и жанр, и стиль сознательно или бессознательно используются ненадлежащим образом, т. е. пародируются. Главная повествовательная стратегия юмористических текстов состоит в использовании стратегий, принадлежащих имплицитным нарраторам (неупомянутым сказчикам) – «худшим людям». Это и есть то, что Волошинов и Бахтин называли «овеществленной прямой речью», где авторская речь звучит как «чужая речь», а повествование направлено не столько на внеязыковую действительность, сколько на чужой и чуждый автору способ отражения этой действительности.
Здесь и находит свое истинное место «теория превосходства» – не на уровне текста, где объект смеха сплошь и рядом не поддается установлению, а на метауровне, в зазоре между позициями автора и неизменно, но тайно присутствующего неупомянутого сказчика, который на лестнице психического развития (интеллектуального, морального, эстетического и т.д.) стоит ниже автора [26]. Вот чем отличается анекдот от сатиры, где если что-то и пародируется, то лишь реальный объект. Понять анекдот не значит понять его «соль», как пытается нам внушить неупомянутый сказчик. Понять анекдот – значит отстраниться от него, взглянуть на него с метауровня и получить от него такое же удовольствие, какое мы получаем от пародии. Современная психологическая теория гласит, что так называемые семантические механизмы юмора – всего лишь предлог для их разоблачения, подлинный же смысл юмора сводится к чистой бессмыслице (Ruch, Hehl 1998).
Кто же этот неупомянутый сказчик? В применении к собственно пародии вопрос кажется странным – кому же не ясно, что она всегда направлена на совершенно конкретную, легко узнаваемую мишень? Ведь даже Бахтин и Волошинов, огромным достижением которых была теория овеществленной прямой речи, рассматривали пародию как сатиру, направленную против одного из персонажей. Но должна ли пародия непременно иметь конкретный объект?
Ю. Н. Тынянов в очень глубоких работах о пародии показал, что суть литературного передразнивания (подробнее о речевом передразнивании см. в главе 3) – не столько в высмеивании кого-то конкретного (хотя сознательная цель пародиста может быть именно такой), сколько в «обнажении условности системы и выходе за ее пределы», «диалектической игре приемом», «изъятии произведения из системы и разъятии его как системы» (Тынянов 1977: 160, 214, 226, 292, 302).
Хотя выводы Тынянова основаны на материале русской литературы XIXв., они весьма созвучны идеям О. М. Фрейденберг (Фрейденберг 1973/1926; Фрейденберг 1998/1951–1954: 345–346), которая доказывала, что античная и средневековая пародия была не чем иным, как необходимой диалектической изнанкой всего самого сакрального [27]. Глубинная, исконная сущность «подражания худшим людям» заключается отнюдь не в высмеивании отдельных лиц и явлений действительности. В чем же тогда? Что если главные (хотя и неосознаваемые) объекты пародии, да и юмора в целом – язык как таковой и наше собственное мировосприятие как таковое?
«Выход за пределы системы», переход на метауровень, обнаружение неуместности и неприемлемости навязываемого нам текста и радостная готовность с нею смириться (как это и бывает при восприятии пародии) – вот что отличает восприятие анекдотов и карикатур от решения задач, требующих умственных усилий (Ruch, Hehl 1998; Ruch 2001; Hempelmann, Ruch 2005). В самом деле, человек, пытавшийся отгадать загадку, «прочесть» ребус или догадаться, кто из героев детектива – убийца, едва ли будет удовлетворен, узнав, что загадка не имеет отгадки, ребус представляет собой случайный набор рисунков, убийца так и не обнаружен, да и вообще все было не всерьез. Эффект же комического текста вовсе не должен зависеть от того, имеется ли в нем «разрешение» или нет, – именно потому, что текст несерьезен. Для многих юмор нонсенса ничуть не хуже иных разновидностей юмора. К какой бы категории ни относился юмор, когнитивные процессы, происходящие на уровне его семантики, служат лишь средством распрощаться с семантикой и перейти на метауровень, а после обнаружения обмана – согласиться остаться в дураках.
Снижение и несерьезность несовместимы со сколько-нибудь существенными когнитивными затратами. Хитроумные анекдоты мало кому нравятся. По крайней мере, взрослые, которые, в отличие от детей, хорошо знают цену подобным задачкам, воспринимают анекдоты по принципу: чем доступней, тем смешнее (Cunningham, Derks 2005). О втором, якобы «тайном» скрипте анекдота они порой догадываются еще до пуанта (Vaid et al. 2003). Доверчиво изучать всю эту низкопробную продукцию, что с таким усердием делают создатели формализованных когнитивно-семантических теорий юмора, веря в то, что «оппозиции скриптов» и «логические механизмы» относятся к сути изучаемого явления, – занятие не особенно продуктивное, на что уже не раз указывали авторитетные теоретики юмора (Davies 2004; Morreall 2004), в том числе один из крупнейших современных лингвистов У. Чейф (Chafe 2007: 151).
Древнейшим источником современных анекдотов, как с разрешением, так и без него, судя по всему, были мифы о трикстере – предельно противоречивом создании, хитреце-волшебнике (эта ипостась трикстера дала начало не только сказочным хитрецам, но и реальным оборванцам, а в дальнейшем – шутам, обезоруживающим правителей остроумно-дерзкими ответами) [28], и одновременно дураке, даже безумце, универсальном нарушителе всех мыслимых законов, природных и человеческих (из этой ипостаси выросли все фольклорные дураки; об отголосках трикстериады в близких к современности текстах см.: Davies 1990: 132–134, 147; Курганов 2001: 25, 33, 55, 69, 76, 129–130, 189, 192, 206; Утехин 2001: 228; Левинтон 2001: 232; Козинцев 2002б). Ю. И. Юдин (Юдин 2024: 262–263) предложил для обозначения поздней (сказочной) разновидности этого противоречивого персонажа термин «дуракошут».
Сбивающая теоретиков с толку «уместная неуместность» (или «сообразная несообразность») современных анекдотов и карикатур коренится именно в древней трикстериаде. Доживи трикстер до современности, ему бы ничего не стоило воплотиться и в мнимого пациента ларинголога, и в самого доктора-рогоносца. Он вполне мог бы и объехать дерево на лыжах с двух сторон сразу, и поверить в то, что собаки смотрят телевизор. Воспринимая комический текст, мы одновременно и переселяемся в мир трикстера («дуракошута»), и смотрим на этот мир с метауровня.
Психологи называют мыслительные процессы, связанные с пониманием анекдота или карикатуры, «когнитивным компонентом юмора», тогда как непонятное чувство, которое мы испытываем, когда смеемся (наслаждение с сильной примесью чего-то еще), именуется «аффективным компонентом юмора». Когнитивный компонент вполне понятен, связан исключительно с семантикой текстов и не вызывает почти никаких споров. Аффективный же компонент может быть связан как с семантикой (вернее, псевдосемантикой), так и с прагматикой юмора. Он представляет собой полнейшую загадку.
В самом деле, мы чувствуем, что находим удовольствие в чем-то отчасти незаконном, быть может, даже постыдном. Мы пытаемся (или делаем вид, что пытаемся) отстраниться от такого занятия, выразить к нему негативное отношение. Рассказывая сомнительный анекдот, мы порой избегаем смотреть собеседнику в глаза или даже закрываем свой смеющийся рот рукой (Kuipers 2000 [29]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См. Kozintsev 2010.
2
Характерно высказывание ведущего специалиста по психологии юмора В. Руха: «Юмор и смех столь же различны (читай „несопоставимы“.– А.К.), как боль и плач» (Ruch 2002; см. параграф 2.3 данной книги).
3
В оригинале: «not to rush to the Conclusions – to my conclusions, not only to theirs».
4
Согласно принятым тут сокращениям, здесь и далее год после косой черты относится к первой публикации книги/статьи.
5
В русском издании «Левиафана» (Гоббс 1991/1651: 44) знаменитое выражение «sudden glory» переведено как «внезапная слава», что затемняет его смысл. В переводе другого трактата – «Человеческая природа» – те же слова переданы более адекватно: «внезапное чувство тщеславия» (Гоббс 1989/1640: 546). Действительно, английское слово «glory» в прошлом имело побочный, ныне забытый смысл – «тщеславие». Но дальше Гоббс употребляет выражение «vain glory», которое, во избежание плеоназма, можно перевести только как «тщеславная гордость».
6
Под «насмешками» Аристотель, видимо, подразумевал нечто близкое к тому, что мы называем «анекдотами» (имеется в виду, конечно, современный жанр городского фольклора, а не истории XVIII – начала XIX в. об исторических персонажах).
7
Наиболее заметное исключение – книга Г. Кёйперс (Kuipers 2006).
8
Большинство зарубежных теоретиков использует термин «юмор» в довольно широком смысле, примерно соответствующем смыслу привычных нам терминов «комизм» и «комическое». В отличие от них, мы не будем включать сюда ни иронию, ни сатиру (эти явления мы обсудим особо). В прошлом понятие «юмор» трактовалось более узко, причем часто этим термином обозначали лишь позднюю европейскую или даже специфически английскую литературную традицию.
9
Самое существенное исключение – фрейдисты, о которых речь пойдет особо.
10
Попытка ученицы В. Раскина К. Тризенберг спасти теорию от этой убийственной для нее аналогии ссылками на то, что разгадка в некоторых детективах, в отличие от анекдотов, складывается постепенно, «по кусочкам», причем некоторые читатели, узнав ее, якобы смеются от радости (Triezenberg 2008: 541), может сама по себе вызвать улыбку.
11
Другой ученик Раскина, К. Хемпельманн, считает, что подлинный юмор всегда референтивен, а каламбуры без семантических оппозиций – «бедные родственники» референтивных шуток (Hempelmann 2004). На самом деле «бедный родственник» в юморе – именно смысл, поскольку сущность юмора состоит в уничтожении семантики и в вытеснении означаемого означающим.
12
Еще раньше Г. К. Честертон в очерке о Л. Кэрролле употребил выражения «несообразная сообразность» и «уместность неуместности» (Chesterton 2000/1953: 233).
13
Термин «метауровень», как и другие употребляемые в этой книге термины с той же греческой приставкой (метаотношение, метарефлексия, метамотивация, метакоммуникация, метаигра, метазнак, метасуждение, метасообщение) входит в круг логических и лингвистических терминов (метатеория, метаязык, метатекст и пр.), обозначающих мыслительное построение второго порядка, служащее для описания и объяснения исходного построения, т. е. позволяющее взглянуть на последнее «со стороны». Например, если уровень анекдота или карикатуры – это уровень «дурацкого» мира, дурного вкуса и примитивной логики, то заметить это можно только с метауровня. Рефлектируя, человек рассматривает с метауровня свое собственное восприятие и поведение. Рефлексия не обязательно ведет к юмору, но является его необходимой предпосылкой.
14
Г. Ритчи считает, что в таких случаях нужно говорить не о разрешении несообразности, а об обнаружении двусмысленности (Ritchie 2004). Нас эти тонкости интересовать не будут.
15
В. Раскин считает юмор разновидностью «недобросовестной коммуникации» (non-bona fide communication) (Raskin, Attardo 1994). Коммуникация, нарушающая прагматические правила (английский термин – «miscommunication»), привлекает в последние годы все большее внимание когнитивистов. Помимо юмора, сюда относятся ложь, ирония, театральная игра (см. главу 3), а, по мнению некоторых авторов, также уклончивая речь, обольщение и даже виртуальная коммуникация в интернете. Все эти явления рассматриваются в сборнике под названием «Сказать, чтобы не сказать» (Say Not To Say 2001). Как видим, специфика юмора здесь совершенно теряется.
16
Это хорошо иллюстрируется нашим противоречивым отношением к обсценной лексике, которая, как заметил Б. А. Успенский, является предметом абсолютного табу и не должна использоваться даже в метатексте. Комическим потенциалом такого пережитка архаического сознания не преминул воспользоваться фольклорный Вовочка. На замечание учительницы «Нет такого слова – „жопа“» он резонно возразил: «Как же так – жопа есть, а слова нет?».
17
Л.С. Выготский (Выготский 1997/1925: 262) сделал шиллеровскую формулу центральной в своей теории искусства. Но приводимые им примеры, от Крылова до Бунина, ясно показывают, что слова «уничтожение содержания формой» («противочувствие», по Выготскому) могут иметь по отношению к серьезному искусству лишь переносный смысл, тогда как по отношению к комическому (которому всегда уделялось меньше внимания из-за его несерьезности) – самый прямой.
18
Об эстетической изоляции см.: Гаман 1913: 18–19, 59–60.
19
Мысль о трагическом и юморе как членах бинарной оппозиции, различающихся всего одним признаком, высказал Л. Е. Пинский, но асимметрии этой оппозиции он, по-видимому, не заметил (см. Приложение).
20
О постмодернистской эстетике можно сказать то же, что и об эстетике формалистов: всё, что она с большими натяжками пытается приписать всякому искусству, целиком и без малейших натяжек применимо к искусству комическому. Сами постмодернисты, впрочем, проявляют к юмору мало интереса, что неудивительно: если всякий текст имплицитно несерьезен, то специально изучать эксплицитно несерьезные тексты незачем.