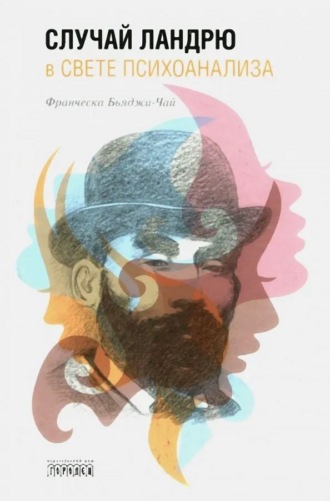
Полная версия
Случай Ландрю в свете психоанализа
N.B.: В то ограниченное время, которым мы располагали для написания этого предисловия, мы не смогли собственноручно познакомиться со всеми упомянутыми источниками; тем не менее, мы решили включить их в список в интересах последующих исследований.
* BSU – Behavioral Sciences Unit; ASPD – Antisocial Personality Disorder; IRM – imagérie par resonance magnétique (МРТ – магнитно-резонансная томография).
** Лоран Рюкье – французский теле- и радиоведущий, юморист, продюсер. Купил плиту, стоявшую на кухне виллы Гамбэ. Вдохновленный делом Ландрю, в 2005 году написал о нем пьесу.
*** Чезаре Беккариа Бонесано (итал. Beccaria Bonesana Cesare, 15 марта 1738 года, Милан – 28 ноября 1794 года, там же) – итальянский мыслитель, публицист, правовед и общественный деятель, деятель Просвещения.
Иеремия Бентам (англ. Jeremy Bentham; 15 февраля 1748 года, Лондон – 6 июня 1832 года, там же) – английский философ-моралист и правовед, социолог, юрист, один из крупнейших теоретиков политического либерализма, родоначальник одного из направлений в английской философии – утилитаризма.
Роберт Бадинтер (30 марта 1928 года) – французский адвокат, председатель Конституционного суда в 1985–1986 годах.
Жозеф-Мари, граф де Местр (1 апреля 1753 года – 26 февраля 1821 года) – франкоязычный (подданный Сардинии) католический философ, литератор, политик и дипломат, основоположник политического консерватизма.
**** Ванзейская конференция – совещание представителей правительства и руководителей нацистской партии Германии, состоявшееся 20 января 1942 года на озере Ванзее на вилле «Марлир» в Берлине. На Ванзейской конференции были определены пути и средства «окончательного решения еврейского вопроса» – программы геноцида еврейского населения Европы (в настоящее время используется термин «Холокост»).
Введение
Загадка серийных убийц
Раскрытое в 1919 году сразу же после войны дело Ландрю стало одним из наиболее громких криминальных дел ХХ века. Впервые в истории общественное мнение столкнулось со способом убийства, неизвестным ранее. Женатый человек, отец четверых детей, влюбленный в певицу, поклонником которой он был, человек внешне, безусловно, нормальный со всех точек зрения, оказался убийцей, которого все знают и сегодня, и который на протяжении четырех лет убил десять женщин и одного юношу. Разумеется, до него был Жозеф Ваше, преступник конца XIX века, по кличке Юго-Восточный Потрошитель, который совершил многочисленные преступления в состоянии болезненного бродяжничества. Но его сначала признали больным, затем выздоровевшим, сначала недееспособным, потом дееспособным, и, так или иначе, его процесс дал повод экспертам поспорить относительно проблемы сумасшествия. В случае Ландрю было не так. Ему, с его невероятным двуличием и мнимой нормальностью, предстояло внести в историю французской юридической практики новую загадку серийных убийц.
До сих пор многочисленные работы, посвященные Ландрю, позволяют увидеть в этом убийце женщин только лишь профиль алчного преступника, действующего по собственной воле. Вопрос о его вменяемости никогда не становился предметом исследования. Тем не менее, именно этот вопрос был у всех на устах и во всех газетах с момента его ареста и до дня казни. Все серьезные авторы согласны с тем, что при чтении следственного дела обнаруживаются некоторые факты, которые, кажется, остались вовсе не объясненными, поскольку не подчиняются никакой логике. Почему Ландрю, изобретатель и механик до того, как стать мошенником, а потом и убийцей, не сумел продать свои изобретения, которые, как мы увидим, имели право на существование? Почему Ландрю, который, как считалось, убивал из-за денег, не выбрал себе жертв побогаче, что обеспечило бы ему то благосостояние, которого в реальности он так и не достиг? Почему он не убил свою любовницу? Вот вопросы, на которые может дать ответ предлагаемый нами психоаналитический подход, который придаст описанию личности знаменитого преступника логическую обоснованность. Ту логическую обоснованность, которую отказывались видеть и которая есть не что иное, как его безумие.
При изучении случая Ландрю встает вопрос о соотношении безумия и мнимой нормальности, и спрашивается, достаточно ли понятия приступа или вспышки, чтобы отразить то, что мы знаем сегодня о безумии. Мы утверждаем, что безумие может дойти до имитации максимального соответствия требованиям, до надевания маски обыденности и повседневности. Оно может принимать эти формы, и не в романе, а в реальности, о чем нам повествует известный миф о докторе Джекиле и мистере Хайде. Оно отказывается от форм, о которых много говорят, но которые так трудно воспринять и считать, что они существуют на самом деле. В этой радикальной двойственности есть что-то, строго говоря, во что невозможно поверить. И все же с этим невероятным – тем, что называют «реальным», которое является стеной, разрывом, бессмыслицей, дырой в общечеловеческом смысле – мы постоянно сталкиваемся в нашей практике психоаналитиков и психиатров. Реальное – это то, что разрывает нить истории субъектов и последовательность их рассуждений. И поэтому наша практика – это не просто доброжелательная, понимающая и даже сочувственная беседа; в плане последствий она касается понимания того, может ли субъект занимать достойное место в обществе среди других или же он сорвется вновь и перейдет к акту (passage à l’acte). И мы желаем читателю, чтобы эта работа позволила ему понять, иначе говоря, ощутить, что есть реальное для Ландрю в его устройстве реальности.
Реальное не есть реальность, это ее модификация, ее субъективное воспроизведение. Оно есть интерпретация смысла жизни, всего того, что каждый субъект узнал через свои первые ощущения, через первые слова и первые взгляды, которые сопровождали его приход в мир, туда, где он постиг сокровенный смысл жизни, превратившийся для него в радость или боль, туда, где через связь с родителями ему было передано то, что приводит к любви и желанию, к партнеру, и однажды, когда придет срок, к материнству или отцовству. Связь с Другим, связь, которая приобщает к культуре, устанавливается в этом сплетении первых идентификаций, однако надо знать, что иногда этого связывания не происходит. Как раз это и случается при психозе.
В психозе субъект находится в социальной связи, но особым образом – странным, хрупким, трудным для понимания, необычным в некотором роде. Но каково бы ни было место, которое занимает психотический субъект в этой связи – будь оно более прочное, более изолированное, более свободное, более опасное, – этот субъект не может быть освобожден от связи с Другим, даже когда он освободится от нее в результате перехода к акту. Переход к акту нельзя понять и интерпретировать вне зависимости от субъекта, привязанного к своему семейному, культурному и социальному контексту. Никакой субъект не может быть исключен из человеческого сообщества. Наше исследование покажет, как Ландрю опирался именно на свое время, и как преступления, которые он совершил, несут на себе отпечаток той сумасшедшей эпохи. Кроме того, случай Ландрю открывает путь к пониманию двух других известных нам случаев. Мы пересмотрим дело Пьера Ривьера, хорошо известное убийство членов семьи XIX века, а затем дело Донато Биланчиа, современного итальянского серийного убийцы, которого считают «случайным убийцей» и который сейчас находится в тюрьме.
Такой подход к реальному в его отношениях с субъектом изменяет понятие ответственности, но не аннулирует ее. Если характеристику реального наложить на субъекта как ограничение, его ответ на это ограничение останется в некотором роде присущим только ему, то есть индивидуальным, личностным, неструктурированным. И в этом ответе обнажается отношение субъекта к реальности его жизни и к реальному его преступлений. Степень ответственности соразмерна этому соотношению. Это то, к чему мы приходим в заключении, посвященном «колебаниям» ответственности в понятиях уголовного права, так как этот момент, как нам кажется, ведет к началу диалога между психиатрией, ориентированной на психоанализ, и правосудием.
Преступление и отсутствие мотивации
Преступление всегда рассматривается людьми как загадка. Как человек может избавиться от связи с Другим, вплоть до желания его исчезновения, то есть окончательно и бесповоротно? Даже сегодня этот вопрос остается открытым, и пересматривать его – значит исключить преступление и преступника из человеческого сообщества. Предполагая, что чаще всего в основе преступности лежит абсолютное Зло, неопределенное, поскольку неопределяемое, и поэтому о нем ничего не известно, уделяем ли мы достаточно внимания самим жертвам? Об этом говорят семьи, когда они хотят восстановить ход этих трагедий и понять сокровенные причины таких страшных деяний. Не для того ли они интересуются этими фактами, чтобы найти нечто другое, кроме быстрого и простого генетического объяснения? Не потому ли общество, используя средства массовой информации, живо интересуется убийствами, мотивацию которых оно не понимает? Когда человек убивает из ревности, страсти, мести, подлости или интереса, есть смутная иллюзия понимания, благодаря тому что его мотивы прочитываются на уровне сознания. Когда человек убивает без явной мотивации, но в состоянии кризиса, ярости, бешенства, это придает смысл его действию и приписывается приступу безумия. Хотя никогда не известно, чем маскируется безумие, узнаваемо лишь безумное поведение.
Но остаются убийства, которые совершаются без видимой мотивации, которые нельзя соотнести ни с припадком, ни с приступом бреда. Тогда мы сталкиваемся с чем-то странным, с загадкой бессмыслицы. Если смысл, принося удовлетворение, проявляется с очевидностью и все оказывается взаимосвязанным, то бессмыслица вызывает и поддерживает ощущение неустойчивости и неудовлетворенности. Бессмыслица – это не противоположность смыслу, она обязательно вызывает стремление к прояснению, желание понять, предвкушение разгадки. И это предвкушение обычно длится, пока детали объяснения не сложатся в неопровержимую логическую последовательность. Иначе говоря, пока предложенные прояснения не сложатся в путь, который приведет к безоговорочному утверждению, к «впечатлению правды».
И потому люди обращаются к специалистам, чтобы те разъяснили то, что непостижимо. Их спрашивают, понимал ли преступник, что он делал, в момент совершения преступления, и в какой степени он способен на повторение этого поступка. В особенности когда речь идет о предположительно беспричинных убийствах. Ведь кажущееся отсутствие причины открывает крайне неприятную перспективу: каковы бы ни были связи и обстоятельства, преступления могут повториться в любой момент, как действия из чистой прихоти. Убийство, называемое «немотивированным»1, заставляет испытывать наиболее сильный страх, потому что несет в себе сильный потенциал повторения. Считалось, что этими необъяснимыми убийствами достигнут предел загадочности преступлений. Но серийные убийцы породили еще большую загадку, ведь в повторяющихся убийствах воспроизводится отсутствие мотивации и смысла.
Здесь мы сталкиваемся с преступниками, у которых первое преступление, первый переход к акту не вызвали никакого шока, никакого ретроактивного эффекта. Они забыли? Стерли из памяти этот акт? Но как? Кажется, что для этих индивидуумов преступление становится ординарным событием странной психопатологии обычной жизни. Обыкновенный человек, хороший приятель, отец семейства, не выделяясь ничем из своего социального, семейного и культурного окружения, может быть в то же время тем убийцей, который равнодушно повторяет свои убийства2. Загадка серийных убийц, считающихся настоящим бедствием в Соединенных Штатах, занимает большое место в средствах массовой информации, а многие фильмы и романы пытаются дать психологическое объяснение этому недоступному пониманию феномену, который распространяется все шире. В Европе единичные случаи не менее «серийны», и за последние несколько лет их список существенно удлинился. Серийные убийцы занимают первые полосы газет, дают материал для телепередач и многочисленных работ с описанием психики индивидуума, который стремится пробить брешь в социальной структуре и добиться объединения тех стран, которые считают себя богатыми и развитыми. Но остается без внимания то, о чем мало известно, а именно реальное в смысле его отличия от реальности, хотя именно оно является активизирующим ядром при переходах к акту.
У серийных убийц не бывает безрассудных поступков, припадков, приступов безумия. К их действиям надо подходить по-другому: или преступник перверт, совершающий преступления осознанно и по своей воле, и надо идентифицировать это наслаждение, рассмотреть эту перверсию за рамками простого предположения; или преступник сумасшедший, и в этом случае признаки безумия – его грани, нюансы, сложность – находятся далеко за пределами очевидного.
Переосмысление случая Ландрю
Случай Анри-Дезире Ландрю оставался загадкой до сегодняшнего дня. Наша цель состояла в том, чтобы недвусмысленно отделить сумасшествие от перверсии, и описать это сумасшествие ясно и понятно без всяких околичностей и неточностей. Мы предполагаем провести исследование на основе психоаналитических концептов, которые были разработаны Зигмундом Фрейдом, продолжены Жаком Лаканом и на сегодняшний день Жаком-Аленом Миллером в «Лакановской ориентации»3. О Ландрю много говорили и писали, и с тех пор все думают, что знают Синюю Бороду нашего времени, который сжигал женщин в кухонной плите. Тем не менее тайна, окутывающая громкий случай, продолжает сгущать тень над серийными убийцами и безоговорочно оправдывает все возможные измышления. Она обращает нас к гораздо большей тайне, той, которая относится к судьбе, к суду Божьей воли или, как говорится, к абсолютной случайности, и к тому, что приписывают сегодня, надо сказать, достаточно легко, немедленному удовлетворению желания, нетерпимости к фрустрации или импульсам «охоты». Эти псевдопричины суть не что иное, как современные образы античного fatum. В то же время этот пробел в знаниях появляется из легенд в завораживающем согласии, которое похоже на обскурантизм.
Прежде чем развеять мрак вокруг случая Ландрю, мы вновь открыли многотомное досье этого дела, чтобы изучить каждую его часть, каждую деталь. Для этого мы наводили справки во множестве архивов, внимательно изучали многочисленные статьи в газетах и журналах, которые, как было принято в то время, освещали процесс во всех подробностях. В этой работе мы использовали все, что относилось к делу и что можно было бы вписать в историю субъекта, которая бы нас удовлетворила. Как того требует практика монографии, мы приняли во внимание все эти детали, даже самые странные и абсурдные. Это позволило нам найти и восстановить, используя каждую деталь и каждое предположение, лейтмотив жизни Ландрю и его личность.
Биография в свете психоанализа
Результат наших исследований позволил нам предложить концепт «биографии в свете психоанализа». Такая биография – это не чисто хронологический рассказ, и тем более не готовое объяснение. Построение данной монографии подобно структуре реального, принадлежащего бессознательному, которая в нем, в реальном, раскрывается, это биография, где реальное связывается с историей. Она позволяет увидеть, чем может быть субъект в своем развитии, начиная с внешнего вида и далее, то есть что скрывается за гордой осанкой и даже за его красноречием. «Биография в свете психоанализа» характеризуется соединением универсального и уникального, она позволяет обнаружить константу в сплетении, которое образуют слова и поступки субъекта. Эта константа проявляется уже с самого начала в том способе, которым субъект входит в реальность. Она становится отпечатком означающего, когда слово Другого, которое преломляется между содержанием и формой высказывания, обретает тело. Проще говоря, сказанные слова возбуждают субъекта, потому что ими движет любовь и желание Другого, направленные на него, Другого, который обращается к нему. Субъект вместе со своими первыми переживаниями познает Другого, одновременно познавая себя. Это отношение к Другому, как и сам субъект, создано в поле языка и речи, в поле, которое Лакан описывал как Другого (Autre, с большой буквы А). Это то, что делает отношения не просто соперничеством, но соперничеством, опосредованным законом.
Нельзя не сказать о том, что такое закон. Это не то, что записано в гражданском или уголовном кодексе, но это символический пакт, который объединяет людей и который запрещает инцест и отцеубийство. Функция отца, как исключение, придает смысл этой способности, которая укореняется в человеке и позволяет ему при помощи ролевой игры мысленно представить себя на месте Другого; это то, что называют Воображением. Поле Другого означает, что посредством речи дискурс накладывается на реальность, и что создается внутренняя реальность, реальное, и что при этом возникает ощущение наслаждения. Вслед за Фрейдом Лакан может сказать, что одна часть наслаждения определенно потеряна для человека, так как он способен говорить. И поэтому Лакан впоследствии зачеркнет А, Другой тоже перечеркнут. В самом деле, наслаждение возникает в том же душевном порыве, что и ограничение наслаждения. Иначе говоря, полного наслаждения не существует. Это объясняет двойной лакановский афоризм, который может быть понят как противоречивый: любая речь имеет своим следствием наслаждение, и наслаждение как таковое запрещено говорящему. Это другой способ сказать, что у людей нет инстинктов, а лишь импульсы, проходящие непосредственно через «щель означающего», в то время как механизм инстинкта лежит вне означающего и оказывается вне отношений с человеческим. Причина этого в том, что общественное мнение относится к этому предчувствию импульса как к чему-то «биологическому» – однако во взаимосвязи с трансцедентной функцией речи, – что человеческий долг заключается в том, чтобы обязать преступника раскрыть тайную мотивацию своих преступлений, их причину. И здесь мы касаемся границы, где иногда встречаемся с молчанием и невозмутимостью обвиняемого. Каким образом в таком случае совместить и тем самым понять отсутствие слов и необходимость их присутствия?
Стена непонимания
Почти век отделяет преступника Патриса Алегра от Анри-Дезире Ландрю. Патрис Алегр был осужден и приговорен к пожизненному заключению за убийство пяти женщин и шесть изнасилований. Известно ли об этом больше, чем во времена Ландрю? Изменилось ли что-то? Сделала ли психиатрия с тех пор какие-то открытия, касающиеся преступности и безумия? Кажется, ничего не изменилось. В момент процесса Алегра газеты пестрели заголовками: «Патрис Алегр, тайны остаются»4. Раньше писали: «В Версальской тюрьме Ландрю остается загадочным и таинственным»5.
И далее: «Тем не менее, девять дней процесса не позволяют ни понять личность и мотивацию этого необычного преступника (Патриса Алегра), ни узнать, замешан ли он в других убийствах»6. «Я считаю, что мы никогда ничего не поймем про Ландрю, даже если он не убивал»7.
«Почему Патрис Алегр совершил пять убийств с актами варварства? Как он стал серийным убийцей?»8 «Почему обвиняемый Ландрю, интеллигентный, имеющий хорошую научную подготовку, стал самым ужасным преступником?»9
Тишина и молчание следуют за этими вопросами. Патрис Алегр, замурованный в невыносимой тишине, повторяет: «Я не знаю». Лейтмотивом Ландрю было: «Стена закрыта, месье президент, я больше не скажу ничего».
Стена, на самом деле, создает препятствие для слов, которые идут от преступника к другим, судьям, адвокатам, семьям жертв. Стена останавливает и поглощает и те слова, которые адресованы ему. Эта стена поглощает все слова, даже те, которые чреваты для преступника серьезными последствиями. Не значит ли это, что стена аннулирует все значения и изолирует его от любой связи? «Приговоренный к максимальному наказанию, Патрис Алегр слушал за решеткой объявление приговора, не шелохнувшись»10. При объявлении вердикта «Ландрю, загадочный тип, не шелохнулся, ни один мускул на его лице не дрогнул»11.
По прошествии времени кажется, что в обоих случаях стена молчания имеет одну и ту же структуру и воплощает неуловимую модальность невозможного в человеке, того, что не поддается пониманию. Эта непроницаемая стена или ее обратная сторона, пропасть без дна, рождает общее непреодолимое влечение к преступникам. Влечение, которое мешает любому проникновению в поле понимания. Бьемся об заклад, что это влечение могло бы быть преодолено, и что кто-то – общественность, журналисты, адвокаты, следователи, комиссары полиции, психологи и психиатры – отбросив его, присоединился бы к нашему желанию прояснить все по-настоящему.
Это желание проявляется в удивлении, которое можно найти, например, в записях комиссара Белена, человека, который арестовал Ландрю. Удивительно, что он хранил их всю жизнь, описал в своих мемуарах, и что это дошло сегодня до нас. Он пишет:
«Я не могу разгадать значение его взгляда. Иногда мне кажется, что я читаю в нем спокойствие, а иногда мне также кажется, что никто больше не сможет контролировать этого человека-загадку»12.
Далее он пишет:
«Я не психиатр (…) Я всегда считал, и те из моих коллег, которые занимались Ландрю, думали так же, как и я, что этот преступник проявляет все признаки раздвоения личности, достаточно необычные и очень интересные для психолога. Но, что самое интересное, когда он совершал воровство или убийство, он записывал их наравне со всем остальным»13.
Ландрю, как и многие, записывал свои доходы и расходы, но комиссар Белен был очень удивлен, увидев, что в каком-то тяжелом раздвоении личности он записывал то, что в здравом уме хотят держать в секрете и даже уничтожают. Комиссар Белен не ошибается. В этой детали содержатся неоценимые данные для клинической картины. В свою очередь, Пьер Альфор, адвокат Патриса Алегра, пишет, какой поразительной была встреча с преступником:
«Я был готов ко всему, но не к этому: существо, сразу сражающее своей улыбкой (…) Я уже встречал преступников. Но в этот раз меня ошеломил поразительный контраст между индивидуумом и поступками, в которых его обвиняли»14.
Пьер Альфор в этом не ошибается, этот парадокс тоже является существенным вкладом в клиническую картину. Способность удивляться – это необходимый шаг для психоанализа в направлении поиска истины. В самом деле, что такое удивление? Это то, что вас беспокоит, возбуждает и оставляет на теле и в сознании след укола, подобно какой-то вещи, которая, как симптом, вас заставляет внезапно остановиться. Способность удивляться, которая присуща большинству людей, неизменна, она проходит через века, она требует и ждет подходящего ответа. Ответа, который позволит прийти к согласию вне зависимости от различий в интерпретации и в дискурсе.
Психиатрическая экспертиза сегодня
Вопросы, которые поднял комиссар Белен, не нашли отклика у экспертов-психиатров, в то время обследовавших Ландрю. В 1919 году психиатрия исследовала вопрос сумасшествия и преступности косвенно; не обращаясь к личности преступника, психиатры перечисляли то, чем преступник не является: «У Ландрю нет никаких следов психоза, патологической вспыльчивости или навязчивых идей. Нет ослабления интеллектуальной деятельности, нет состояния спутанности сознания». Они исследовали то, что они называли «умственными способностями» Ландрю «за пределами любых вопросов преступности». С этой точки зрения его способности могли быть «признаны нормальными по всем пунктам». Заключение гласит: «Ландрю не страдает никаким психическим заболеванием»15.
Сегодня больше никто не смог бы написать, что преступника изучали вне какой-либо «связи с преступлением». Но что предлагает психиатрия в ответ на вопросы, которые ставит правосудие? Действительно ли она хочет знать, кто16 есть субъект, совершивший преступление, или, как и прежде, встречаясь с необходимостью ответить на социальный или юридический вопрос ответственности, она дает ответ в обтекаемой бессодержательной формулировке? Известные психиатры в области криминологической экспертизы предлагают «общую модель, равноудаленную от трех полюсов: психопатическое расстройство, нарциссическая перверсия и страх уничтожения»17. Новая нозологическая форма, названная «состоянием патологической жестокости», допускает такие колебания, которые позволяют поместить «серийных убийц» «между психозом и нарциссическим расстройством»18. У этих убийц, как они утверждают, преобладает нарциссическое расстройство. Ничтожность жертвы и безразличие к ней означают для этих клиницистов «нарциссическое всемогущество».
Ведь когда врачи спрашивали Патриса Алегра о его преступлениях, что он им отвечал? «Это пустяки». Он предложил им сценарий a minima, который он повторит и на скамье подсудимых: «Я хотел их поцеловать, а они не хотели, это меня нервировало, я их душил и насиловал»19.



