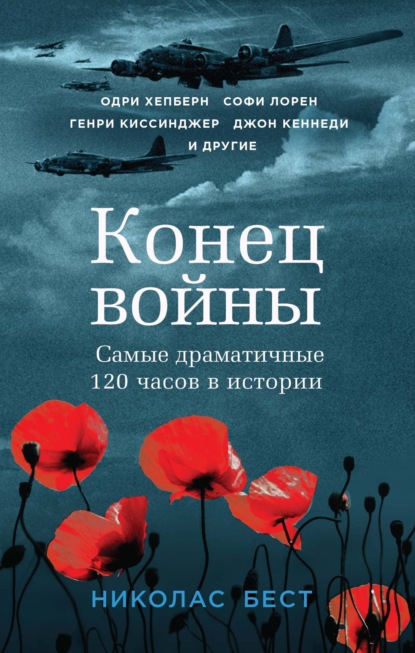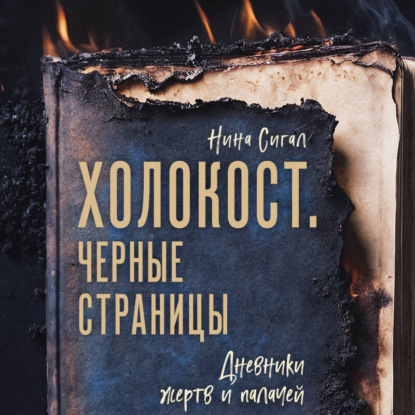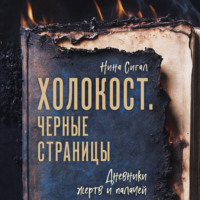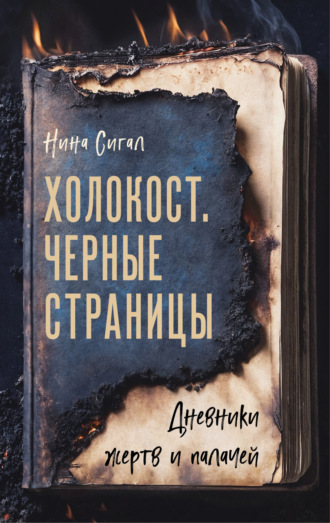
Полная версия
Холокост. Черные страницы. Дневники жертв и палачей
Эти слова услышала и черноволосая девочка-еврейка, Анна Франк, мечтавшая стать писателем. Она ловила радиосигналы в укромном местечке на чердаке того дома на набережной Принсенграхт, где ей удавалось скрываться почти два года, в то время как большинство ее друзей и одноклассников и члены их семей уже были угнаны нацистами.
Анна вела свой дневник с того дня, как ей исполнилось тринадцать лет. На день рождения ей подарили тетрадь, в которой она стала писать письма своей вымышленной подруге Китти. Это случилось буквально за несколько недель до того, как вся ее семья – отец Отто, мать Эстер и старшая сестра Марго – поселилась на этом чердаке вместе с четырьмя другими людьми, которых они едва знали.
«Господин Болкештейн, член кабинета министров, в своей речи из Лондона сказал, что из наших дневников и писем будет составлен архив документов о войне, – вывела она в своем дневнике на следующий день. – Разумеется, все тут же наперебой заговорили о моем дневнике… Лет через десять после войны людям будет занимательно читать о том, как мы, евреи, скрываясь, жили здесь, что мы ели и о чем говорили».
Услышав обращение Херрита Болкештейна, юная писательница прекратила писать письма вымышленной подруге и вместо этого решила начать роман под названием «Тайное убежище», который она надеялась напечатать после войны. «По названию все сначала сразу подумают, что это детектив», – написала Анна Франк{11}.
Анна Франк была одной из тысяч голландцев, слушавших тем вечером выступление Херрита Болкештейна на «Радио Оранье» и веривших, что война вскоре закончится и они смогут опубликовать свои воспоминания. Многие из них под впечатлением от этого обращения взялись за перо и начали вести записи. Но многие и раньше вели записи, описывая свои впечатления и наблюдения день за днем с самого начала немецкой оккупации. «Многие люди начали вести свои дневники с 10 мая 1940 года, хотя до этого никогда в жизни не занимались этим», – сказал мне Рене Кок.
* * *Мы часто представляем себе историю как некий рассказ, который представлен уже спустя какое-то время после описываемых событий. Именно поэтому было весьма необычно, что министр голландского правительства в изгнании получил согласие кабинета министров учредить архив со свидетельствами о войне, хотя до начала боевых действий союзных войск по освобождению Голландии было еще полгода, а до полного освобождения ее территории – 14 месяцев.
Идея создать центр изучения периода войны, которая даже еще не закончилась, пришла в голову голландскому журналисту в изгнании еврейского происхождения Ло де Йонгу, который во время войны стал известен своими выступлениями на «Радио Оранье», которое вело вещание из Лондона. Именно Ло де Йонг в приватных беседах убедил министра Болкештейна выступить с этой инициативой в голландском кабинете министров. Он же написал речь для Болкештейна, прозвучавшую в эфире 29 марта{12}.
Ло де Йонг не знал, что в это время на его родине, в оккупированных Нидерландах, группа историков, возглавляемая профессором экономики и социальной истории Николаасом Вильгельмусом Постумусом, разрабатывала аналогичный план. Постумус как ученый, который много времени и сил посвятил работе с архивами, к тому времени уже основал несколько библиотек и исследовательских центров для сохранения документов об экономической и социальной жизни. В общей сложности за свою жизнь он смог создать пятнадцать подобных библиотек и центров.
В 1935 году Постумус основал Международный институт социальной истории в Амстердаме. Архивы этого института пополнились «бесценными документальными свидетельствами о тех, кто подвергся гонениям» во времена «политического кризиса и преследований» после прихода к власти в Германии нацистов{13}. Постумус также оказывал большое содействие своей супруге Виллемине Хендрик Постумус – ван дер Гоот, которая являлась голландским экономистом, журналистом и борцом за мир, принимала участие в создании Международного архива женского движения и библиотеки феминистских исследований, также расположенных в Амстердаме.
Вскоре после вторжения нацистов в Голландию Постумус осознал необходимость создания архива для сбора свидетельств об оккупации. Уже в мае 1940 года он прочитал свою первую лекцию по этому вопросу. Через два года за свою антифашистскую позицию профессор Постумус был уволен из Утрехтского университета, в котором преподавал. Позже нацисты конфисковали большую часть его архивов. Только в 1944 году в Германию было отправлено по Рейну двенадцать барж, груженных материалами из архивов Международного института социальной истории{14}.
Однако это не остановило профессора, который уже в 1942 году приступил к негласному сбору информации и документальных материалов о войне и нацистской оккупации. В период своей работы в издательстве в Лейдене Постумус задумал создание «Национального бюро сбора документов о войне», подобрал его руководящий состав и приступил к поиску необходимых финансовых средств{15}. В январе 1944 года руководство Национального бюро провело тайную встречу в одном из кафе Утрехта, чтобы составить план исследований и публикаций{16}.
Это были не единственные ученые на Европейском континенте, которые заранее продумывали, каким образом можно сохранить для истории материалы о войне, и разрабатывали соответствующие планы. Незадолго до ликвидации Варшавского гетто в 1942 году группа писателей, журналистов и архивистов во главе с польским ученым еврейского происхождения Эмануэлем Рингельблюмом собрала все материалы о гетто, которые ей удалось найти: фотографии, мемуары, дневники, рукописные сборники стихов, письма, детские рисунки. Они смогли сохранить эти материалы, закопав их на территории гетто. На сегодняшний день эта уникальная коллекция документов, собранных неформальной подпольной еврейской группой «Ойнег Шабес», является, вероятно, крупнейшим в мире восстановленным архивом материалов на еврейскую тему довоенного и военного времени. Аналогичные собрания документов были также обнаружены в Виленском, Белостокском, Лодзинском еврейских гетто.
«В сотнях различных тайников, в гетто, тюрьмах, лагерях смерти одинокие и объятые ужасом евреи оставили множество дневников, писем и других свидетельств о том, что они пережили, – отмечал историк Сэмюэль Д. Кассоу. – Однако до нашего времени дошла лишь малая часть от того огромного количества документов той поры, основная часть этих материалов утрачена навсегда»{17}. Те подвижники, которые принимали участие в сборе материалов для «Ойнег Шабес», писал Сэмюэль Д. Кассоу, по всей видимости, понимали, что они, «возможно, пишут последнюю главу восьмисотлетней истории польского еврейства».
Исаак Шипер, ведущий польский историк еврейского происхождения, изучавший период между двумя мировыми войнами, понимал всю ценность этих материалов не только для освещения еврейского вклада в мировую историю, но и для определения будущего развития мировой истории. «Все зависит от того, кто передаст наше завещание будущим поколениям, от того, кто напишет историю этого периода, – сказал он одному из заключенных концлагеря Майданек незадолго до своей гибели (этому заключенному удалось выжить). – Если наши убийцы одержат победу, если они напишут историю этой войны, наше уничтожение будет представлено ими как одна из самых прекрасных страниц мировой истории, и последующие поколения будут отдавать им дань уважения как бесстрашным крестоносцам. Каждое их слово будет воспринято как Евангелие. Или же они могут вообще стереть память о нас, словно нас никогда и не существовало, словно никогда не было ни польского еврейства, ни Варшавского гетто, ни концлагеря Майданек. И ни одна собака по нам не завоет»{18}.
Внимание историков, которые вели сбор свидетельских показаний, воспоминаний из первых рук и других личных артефактов, освещавших жизнь тех, кому предстояло вскоре умереть, было направлено не только на представителей еврейских общин, оказавшихся под угрозой полного уничтожения. После Первой мировой войны возникла новая форма «истории настоящего времени», как писал Генри Руссо, французский историк египетского происхождения. Ее появление было вызвано необходимостью дать объяснение массовой гибели гражданского населения, нападениям на мирное население, массовым убийствам военнопленных и разрушению городских центров, не имевших значения с военной точки зрения. «Перед нами встает ужасный вопрос: как сохранить память о погибших и без вести пропавших? – писал Генри Руссо. – Как примириться с коллективными потерями, придать смысл событиям, которые выше нашего понимания?»{19}
Вторая мировая война была не просто военным конфликтом, но «беспрецедентной агрессией против гражданского населения», писал историк Питер Фриче. Идеологическое насилие в этой войне происходило в городских центрах, в общественных местах, в общественном транспорте, на предприятиях, дома. Зачастую это проявлялось в предательстве со стороны соседей, порой – даже в предательстве в рамках одной семьи. «Война стерла целые пласты сопереживания», – писал Питер Фриче. Это коренным образом изменило человеческие отношения, оказало огромное воздействие на связи между родственниками и членами семьи, на личные контакты{20}.
Историки признали, что они сыграли свою роль в формировании новой «коллективной памяти» (этот термин был введен французским философом и социологом Морисом Хальбваксом в период между двумя мировыми войнами) как способа не просто фиксировать события, но и трансформировать человеческое поведение в попытке исцелить общество. Этот новый способ написания новейшей истории придавал особое значение «моральным свидетелям»{21}, голосам Выживших, которые могли говорить от имени мертвых, чтобы передать человечеству: мы могли бы добиться большего, мы могли бы быть лучше.
* * *Как и обещал Болкештейн, 8 мая 1945 года, всего через три дня после освобождения Голландии, правительство страны основало Национальный государственный институт военной документации (Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, RIOD), позже переименованный в Институт исследований войны, Холокоста и геноцида (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, NIOD). Люди из всех слоев общества приносили и передавали в дар Институту свои записные книжки, альбомы, тетради, вырванные откуда-то разрозненные страницы, выкопанные из земли картотечные карточки, неотправленные письма, черновики мемуаров, личные фотографии и заметки, нацарапанные на игрушечных деньгах «Монополии» и папиросной бумаге.
Кроме того, основатели Института собирали материалы, обращаясь с соответствующими призывами по радио, расклеивая соответствующие плакаты и просто обходя дома с просьбой к голландцам предоставить им свои личные документы. Ло де Йонг{22}, который был назначен директором Института в октябре 1945 года, сам колесил по стране в поисках необходимых материалов и добивался получения документов, находившихся в распоряжении бывших коллаборационистов, лидеров Национал-социалистического движения (голландской нацистской партии) и обергруппенфюрера СС, одного из руководителей нацистского оккупационного режима в Нидерландах Ганса Альбина Раутера. Желающие могли передать материалы в центральный офис Института на улице Херенграхт или в дополнительные офисы в Гааге и даже в Батавии, в то время столице Голландской Ост-Индии{23} (сейчас – Джакарта, столица Индонезии).
Как отмечал Генри Руссо, голландцы оказались первыми, кто стал осознанно сохранять такие материалы о военном времени, однако многие другие европейцы быстро последовали их примеру, включая граждан Франции, Италии, Австрии и Бельгии. «Повсюду в Европе, часто по инициативе государства и при поддержке академических кругов, были созданы институты, специализировавшиеся на истории, и специальные комитеты с задачей сбора документов и свидетельств и создания первых хроник о событиях, которые только что завершились», – писал Генри Руссо{24}.
Нидерланды, безусловно, оказались первопроходцами в изучении и сборе свидетельств об индивидуальном, гражданском, субъективном опыте людей в период оккупации. Архив Института представлял собой в высшей степени демократичное собрание документов: здесь были записи воспоминаний жертв нацистов и коллаборационистов, очевидцев и участников событий. Все это вперемешку располагалось на полках архива. Эти источники в течение прошедших с тех пор десятилетий позволили огромному количеству ученых исследовать войну с точки зрения простого человека.
Таким образом, Институт исследований войны, Холокоста и геноцида стал авторитетным центром военной истории. Первый директор института, Ло де Йонг, написал исчерпывающую монографию по национальной истории «Королевство Нидерландов во Второй мировой войне» (Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog), которая была издана в период с 1969 по 1988 год в двадцати шести толстых томах. Изданию этой серии предшествовал показ телевизионного сериала «Оккупация» (De Bezetting) из двадцати одной части, которые озвучивал и вел также Ло де Йонг. Этот сериал транслировали на единственном телеканале страны с 1960 по 1965 год.
Используя телеэкраны и страницы книг, этот «историк нации», таким образом, создал в сознании нации такое описание жизни народа в военный период, которое, как утверждал британский историк Брэм Мертенс, «быстро сформировало единодушное мнение о войне, получившее широкую популярность»{25}. Так в послевоенную эпоху была сформирована коллективная память о войне. История страны, по словам Брэма Мертенса, была представлена примерно следующим образом: «Нидерланды являлись, по существу, хорошей страной, там было много участников Движения сопротивления, которые боролись против жестоких захватчиков и в конечном счете одержали победу. Согласно Ло де Йонгу, как стало ясно уже после войны, находились те, кто был «прав на войне», и те, кто был «не прав на войне» (по-голландски – goed en fout).
Из этого же описания деятельности голландцев в годы войны возник также «миф о голландском сопротивлении», как его часто называют, в котором преобладают истории о героическом, но частном неповиновении попыткам нацистов разрушить толерантную систему ценностей Голландии. Это распространенное представление противостояло рассказам очевидцев и участников событий, которые свидетельствовали об обратном, но не получили такой же популярности в обществе, как «миф о сопротивлении». В целом все послевоенные воспоминания о военном периоде в Голландии являлись скорее не отдельным мифом, а целым «мифологическим ландшафтом», как предложил называть это явление политолог Дункан Белл: «широким ландшафтом дискурсов, в котором нация пыталась определить свой национальный характер в связи со своим военным прошлым – и до сих пор продолжает это делать»{26}.
* * *В марте 1946 года Ло де Йонг создал в Институте исследований войны, Холокоста и геноцида отдел дневниковых записей и назначил его руководителем своего заместителя А. Э. Коэна, который добивался того, чтобы среди сохранившихся экспонатов были представлены «все категории дневников». Это означало, что он собирал для архива дневники, которые были написаны фермерами и школьными учителями, состоятельными землевладельцами и бедными старьевщиками, сочувствующими нацистам и коммунистами – то есть людьми из всех слоев общества. Дневников «не обязательно должно быть много, но они должны быть разнообразными», писал А. Э. Коэн{27}.
Сотрудники Института читали и просматривали каждый представленный им дневник и затем принимали решение, как с ним поступать: сохранять для архива, копировать или вернуть его владельцу. По словам Рене Кока, этот выбор входил в основном в обязанности Джитти Сеницер – ван Леенинг, бывшей студентки факультета языков и истории Лейденского университета. Она составляла рецензию к каждому представленному документу. Иногда эти рецензии были короткими, не более одного предложения, а иногда – длиной в три страницы. Каждый дневник, переданный в Институт, независимо от того, сохранялся ли он для архива, получал номер. К концу пятидесятых годов Сеницер – ван Леенинг зарегистрировала объект хранения номер 1001. В настоящее время количество объектов в архиве увеличилось более чем в два раза.
Дневнику Анны Франк был присвоен номер 248. Краткое резюме Джитти состояло из одной строчки, в которой подтверждалось лишь, что Институт «уже предпринял» или же «намеревается предпринять шаги для приобретения оригинала»{28}. Этот оригинал в то время находился у отца Анны, Отто, который пытался найти издателя для публикации дневника – и в конце концов смог сделать это. Книга «Приложение. Дневниковые заметки 14 июня 1942 – 1 августа 1944» (Het Achterhuis. Dagbrieven van 14 juni 1942 tot 1 augustus 1944), написанная Анной Франк, была впервые опубликована в 1947 году. Впоследствии эта книга стала одной из самых распространенных переводных книг в мире. Согласно завещанию Отто Франка, который умер в 1980 году, все оригиналы рукописей Анны и три фотоальбома были переданы в Институт исследований войны, Холокоста и геноцида.
Рене Кок до сих пор помнит тот ноябрьский день, когда из Швейцарии, из Базеля, к ним прибыл государственный нотариус с несколькими коробками, в которых находились эти материалы: «Для Института это было то же самое, как если бы нам передали оригинал «Ночного дозора» или «Мону Лизу».
Я как-то поинтересовалась у Рене Кока, как он оценивает дневник Анны Франк по сравнению с двумя тысячами других документов, находящихся на хранении в архиве Института. Он ответил, что это выдающийся экспонат. «Среди тех, кто скрывался от нацистов, было много людей, оставивших свои записи о том периоде, – заявил он, – однако писательский талант Анны остается непревзойденным».
Дневник Анны Франк много лет хранился в основном хранилище Института исследований войны, Холокоста и геноцида, затем был помещен в специальный сейф в архивном подвале, а в 2019 году был передан в Дом-музей Анны Франк, расположенный недалеко от Института. Там обычно часть рукописи выставляется на всеобщее обозрение[11].
* * *Я намеренно не привожу здесь отрывки из самых известных дневников, принадлежавших Анне Франк, Этти Хиллесум, Абелю Якову Герцбергу и хранящихся в архиве Института, или из других не менее достойных внимания дневников, которые ранее были опубликованы полностью, таких как лагерные дневники Лодена Фогеля, Ренаты Лакер и Дэвида Кокера. Все эти документы, безусловно, заслуживают внимания – каждый из них по отдельности, – однако моей целью являлось добавить в «мифологический ландшафт» новые голоса. Дневник Анны Франк – это литературная жемчужина, но слишком многие ссылаются на него, чтобы рассказать о немецкой оккупации Голландии, а также о Холокосте. Для меня это всего лишь кусочек общей мозаики. Чем больше дневников, тем перед нами вырисовывается более масштабная картина, дающая более глубокое осознание исторических событий и помогающая гораздо лучше понять географию и топографию этого ландшафта.
Чтобы найти дневники, которые я хотела бы использовать в этой книге, я начала с того, что обратилась за советом к экспертам Института исследований войны, Холокоста и геноцида Рене Коку и Рене Потткампу. Подобно А. Э. Коэну, я хотела найти несколько точек зрения на те исторические события, пусть даже их было бы не так много, главное – чтобы они были разными. Я хотела сопоставить и сбалансировать различные свидетельства периода оккупации и придать этому вопросу более или менее законченный вид. Я также надеялась исследовать «серые зоны», моменты моральной нерешительности и социального коллапса.
Сначала я попросила Рене Потткампа, координатора программы «Заведи дневник», изучить, какие дневники уже были расшифрованы и оцифрованы, полагая, что это ускорит мой перевод. На тот момент была завершена работа примерно с девяноста документами, однако большую часть из них составляли достаточно короткие дневники за 1944 и 1945 годы, а мне нужны были материалы за весь период войны. Мне пришлось расширить свои поиски.
Я углубилась в две большие папки с рецензиями Джитти. Ее пометки показались мне весьма меткими и занятными: «Незначительный дневник школьной учительницы», «Банальные комментарии и множество неточностей», «Превосходный дневник трамвайного кондуктора. Возможно, немного однообразный, но то, как он описывает атмосферу того времени, просто великолепно». Рене Кок наклеил маленькие желтые листочки на те пометки Джитти о дневниках, которые показались ему особенно интересными, поэтому я уделила им особое внимание, и они помогли мне существенно сузить свой выбор.
Хотя я, разумеется, отдавала предпочтение хорошо написанным дневникам, это не относилось к моим основным критериям. Некоторые из авторов дневников являлись опытными писателями и хорошо владели слогом, другие же были непрофессионалами. Главным критерием отбора для меня была способность автора дневника увлечь читателя в свой мир. Хотя работа над этой книгой начиналась как попытка задокументировать «обычную» жизнь в военное время, ни один из людей, дневники которых я в итоге выбрала, не мог считаться типичным или банальным. Я обнаружила, что история жизни каждого из них содержит самые неожиданные повороты и откровения.
Трое из выбранных мной авторов дневников – евреи: один скрывался во время оккупации, другой писал в концлагере, а третий некоторое время жил в Амстердаме, являясь членом городского совета еврейской общины. Еще двое из выбранных мной авторов являлись голландскими нацистами: один из них был полицейским агентом в Амстердаме, другая – женой начинающего нацистского чиновника, светской львицей в Гааге. Еще один автор дневника – член Движения сопротивления, который спас много жизней. Автор последнего дневника – семнадцатилетний фабричный рабочий, не имевший никаких политических взглядов и не принадлежавший ни к какой политической организации.
Все они, тем не менее, оставили нам важнейшие документы о нацистской оккупации Нидерландов, и их свидетельства проливают свет на частную сторону жизни людей того времени, их личное восприятие происходившего во время войны, всего того, с чем столкнулся каждый человек под гнетом фашизма. Некоторые из этих свидетельств никогда не были опубликованы, другие были напечатаны, но, по моему скромному мнению, практически не были замечены широкой публикой.
Каждая из их историй проливает свет на оставшийся до сих пор неизвестным какой-то момент войны. Мы узнаем о самооправданиях и аргументах в пользу своей деятельности одного из руководителей полиции, который вел на удивление обширный – целых восемнадцать тетрадей с вырезками из издания «Новый порядок»! – дневник объемом в 3300 страниц. Мы услышим рассказ о том, как еврейский дедушка в отчаянных попытках спасти своих двухлетних внуков-близнецов перемещает их из одного укрытия в другое. Мы увидим, какие моральные муки переживает молодая секретарша-еврейка, когда она оказалась перед сложным выбором, получив распоряжение передавать приказы о мерах преследования евреев со стороны рейха. Нам станет понятно, что означало для семьи бакалейщика предоставлять укрытие десяткам евреев, прятавшихся в лесах. Мы станем свидетелями психологической деградации жены голландского нациста, которая все свои надежды возлагала на светлое арийское будущее, однако этим надеждам не суждено было сбыться. Дневники, описывающие ход войны, покажут нам ежедневную борьбу не на жизнь, а на смерть.
Французский литературный критик Филипп Лежен называл дневники «пугающим противостоянием со временем». Джудит Коэн в свою очередь считает, что «чтение дневников – это движение по течению истории», потому что «дневниковая запись всегда находится на самом гребне времени, продвигаясь на неизведанную территорию». Когда мы читаем дневники, писал Лежен, «мы как бы соглашаемся иметь дело с непредсказуемым и неподконтрольным нам будущим»{29}.
Опыт войны для голландцев (то самое «неподконтрольное будущее») начался для большинства авторов этих дневников ранним утром 10 мая 1940 года, когда первые немецкие парашютисты люфтваффе десантировались в Гааге и ее окрестностях. Сначала они казались просто точками в небе. Затем, по мере того как они приобретали очертания и приближались к земле, это стало похоже на спектакль современного балета, только в воздухе: тысячи быстрых прыжков, вихрь тысяч пышных юбок. Любой случайный прохожий в то раннее утро, взглянув на небо, увидел бы внезапный дождь из морских анемонов.
Многие наблюдатели сообщали, что сначала казалось, будто самолеты просто пересекали воздушное пространство Нидерландов в направлении Великобритании. Этого следовало ожидать, поскольку немцы уже находились в состоянии войны с Англией. Но вдруг самолеты резко развернулись над Северным морем и направились к Нидерландам. Затем внезапно посыпались десантники, полетели бомбы, было разрушено несколько мостов. Утреннее спокойствие, а также иллюзии того, что Нидерланды смогут сохранить нейтралитет, которого им удавалось придерживаться во время Первой мировой войны, были грубо растоптаны.
Для авторов дневников о военной эпохе это послужило отправной точкой…