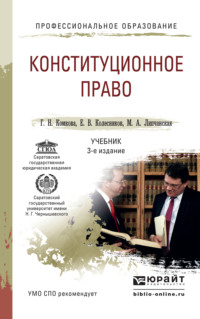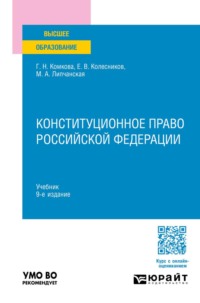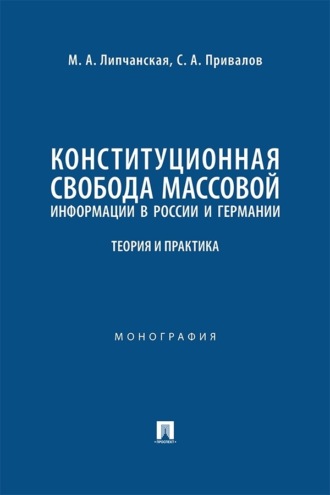
Полная версия
Конституционная свобода массовой информации в России и Германии. Теория и практика. Монография
В вопросе содержательного соотношения данных свобод логичной представляется следующая взаимосвязь: исторически первое частное – более позднее общее, где частным является свобода печати, а общим – свобода массовой информации. Более раннее возникновение свободы печати связано с тем, что долгое время основным способом распространения информации среди широких масс была именно пресса, то есть средства массовой информации печатного характера. Вследствие этого долгое время идеи о свободе печати по своей сути представляли собой не что иное, как идеи о необходимости свободного распространения массовой информации. В XX веке развитие науки и технологии привело к появлению новых видов массмедиа: радио и телевидения, позже – сети Интернет. Именно этот факт и детерминировал возникновение новой правовой конструкции – свободы массовой информации, включающей в свой состав возможность не только беспрепятственно, с соблюдением существующих границ рассматриваемой свободы, печатать ту или иную информацию, но и производить и распространять ее посредством иных СМИ. Таким образом, свобода печати представляет собой составной элемент свободы массовой информации.
Данная концепция прослеживается в отечественной доктрине. Так, по мнению В. Г. Елизарова, свобода массовой информации представляет собой комплекс прав, включающий права свободно искать, получать, передавать, производить и распространять массовую информацию любым законным способом, осуществление которых связано с ограничениями, установленными в соответствии с Конституцией Российской Федерации в той мере, в которой это необходимо для защиты прав и законных интересов других лиц, а также в иных конституционно обоснованных целях ограничений[45]. В данном случае вопрос понимания В. Г. Елизаровым свободы массовой информации как комплекса прав не является центральным, поскольку он уже был рассмотрен ранее. Следует обратить внимание на структурный состав в данном понимании свободы массовой информации. Формулировка «любым законным способом» подразумевает возможность передачи, производства и распространения массовой информации, в том числе и посредством печатной продукции, а это значит, что автор определения включает в состав свободы массовой информации свободу печати. Такой же точки зрения придерживается и С. А. Куликова: «В связи с появлением в мире все более новых средств массовой информации (телевидение, радиовещание) в новейших конституциях свобода печати поглощается понятием свободы массовой информации»[46].
Интересной точки зрения придерживается С. Н. Шевердяев. Комментируя обозначенную ранее норму Всеобщей декларации прав человека о свободе информации, он отмечает, что в ней «речь главным образом шла об обосновании возможности граждан на ознакомление с материалами иностранных газет, теле- и радиопередачами, иными словами эта проблема касалась доступа к иностранным СМИ <…> однако ничего принципиально нового по сравнению с традиционным обоснованием свободы слова и свободы печати в этой модернизированной концепции субъективных правомочий в области информации нет»[47]. Таким образом, по мнению С. Н. Шевердяева, свобода массовой информации по своей сути тождественна свободе печати и отличается от нее лишь большим спектром охватываемых в правовом регулировании средств массовой информации. Именно по этой причине нормы национального законодательства ряда стран, касающиеся свободы печати, не претерпели изменения[48]. Данный вывод, с одной стороны, нисколько не противоречит преобладающей в отечественной теории позиции, конструктивно дополняет ее и на более глубоком уровне раскрывает суть взаимодействия рассматриваемых свобод; а с другой – максимально четко разъясняет зарубежный, в том числе и немецкий, подход к законодательному регулированию содержания свободы массовой информации и свободы печати.
В то же самое время, в Германии нет единого подхода к соотношению свободы массовой информации и свободы печати[49]. Стоит отметить, что в Германии разделяют свободу печати на внутреннюю – свободу журналиста от давления со стороны редакции – и внешнюю – свободу от государственного или экономического давления на прессу извне[50]. Однако для рассмотрения соотношения свободы массовой информации и свободы печати, данное деление значения не имеет. В немецкой доктрине существует несколько подходов к их соотношению. Первый опирается на отсутствие в принципе такой категории, как свобода массовой информации, и утверждает о параллельном существовании нескольких близких, тесно связанных, но независимых свобод: свободы печати, свободы вещания и свободы кино[51]. Основанием для данного подхода является отдельное закрепление указанных свобод в предложении 2 абз. 1 ст. 5 Основного закона[52]. В таком понимании разница между указанными свободами заключается исключительно в способах, с помощью которых происходит распространение сведений: свобода печати гарантирует циркуляцию информации посредством печатных носителей, свобода вещания – распространение с помощью радио- и телесигнала информации аудио- и аудиовизуального содержания, и свобода кино – производство аудиовизуальной информации, распространяемой посредством специальных физических носителей. При этом сущность указанных свобод, а также главного объекта их регулирования – массовой информации – остается неизменной. Вследствие этого в немецкой правовой теории сложился и другой подход, согласно которому все свободы, устанавливающие беспрепятственное обращение информации, зафиксированной на разного рода носителях, в своей совокупности представляют единую правовую конституционную категорию, по сути – свободу массовой информации[53]. Более того, перечисленный в абз. 1 ст. 5 Основного закона Германии список средств, которые могут использоваться для распространения информации среди больших масс людей (прессы, радио и фильмов), не является исчерпывающим[54]. Из этого напрашивается вывод о том, что свобода печати и свобода вещания в принципе не могут охватить все способы распространения массовой информации. Следовательно, должна существовать иная, более обширная категория, обеспечивающая беспрепятственную циркуляцию всех видов массовой информации.
Тем не менее формальное деление свободы массовой информации на свободу печати и свободу вещания в абз. 1 ст. 5 Основного закона ФРГ породило двойную систему правового регулирования указанных свобод: свобода печати регулируется специальным законодательством федеральных земель, а свобода вещания – Государственным договором о радио- и телевещании (Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien), заключенным между федеральными землями Германии[55]. В то же время стоит отметить, что основным предметом данного договора является организация радио- и телевещания, а не регулирование свободы массовой информации. Это связано с тем, что основы беспрепятственного обращения массовой информации в целом в силу исторических особенностей урегулированы в рамках свободы печати. Именно поэтому важность и ценность свободы массовой информации в Германии, например в постановлениях Федерального Конституционного Суда (Bundesverfassungsgericht), раскрывается через свободу печати[56]. На этом основан третий подход немецкой конституционной доктрины – формальное отождествление свободы печати со свободой массовой информации. То есть данная доктрина целиком и полностью совпадает с ранее приведенным мнением С. Н. Шевердяева.
Таким образом, следует отметить, что как в российской, так и в немецкой конституционно-правовой науке сложились некоторые близкие друг к другу подходы в понимании сущности соотношения свободы массовой информации и свободы печати. Наиболее предпочтительным из них представляется тот, согласно которому свобода печати является предшественником свободы массовой информации, которой она была поглощена без изменения сути первой в результате развития способов и средств производства, распространения и получения информации, направленной на массовую аудиторию.
Представляется также необходимым развести между собой такие явления, как свобода массовой информации и свобода информации. При этом стоит отметить, что в России и Германии имеют место несколько разные подходы к пониманию свободы информации. Так, ч. 4 ст. 29 Конституции РФ закрепляет за каждым право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом[57]. Из этого проистекает предусмотренное ч. 2 ст. 24 отечественной Конституции право на получение информации от государственных органов и органов местного самоуправления, а также их должностных лиц, касающейся прав и свобод человека и гражданина[58]. Это значит, что в России свобода информации состоит, с одной стороны, из возможности каждого человека производить, распространять и получать информацию, а с другой – из обязанности органов государственной и муниципальной власти, а также их должностных лиц предоставлять гражданам касающуюся их информацию. Подобной точки зрения придерживается и существенная часть отечественных ученых-правоведов. Так, В. С. Хижняк понимает под свободой информации: «право любого человека искать, получать, передавать, производить любые сведения о фактах, событиях, процессах и явлениях любым законным образом. Эта возможность обеспечивается соответствующей обязанностью органов государственной власти, местного самоуправления и их должностными лицами»[59]. Аналогичным образом понимает ее и В. Г. Елизаров, который утверждает, что «свобода информации является обобщающей и включает в себя: право на получение информации, свободу слова и свободу массовой информации»[60].
В свою очередь, Основной закон ФРГ в предложении 1 абз. 1 ст. 5 закрепляет право свободно выражать свое мнение посредством слов, как в устной, так и в письменной форме, а также посредством изображений, и беспрепятственно черпать знания из общедоступных источников[61]. Вторая часть указанной формулы – беспрепятственно черпать знания из общедоступных источников – и представляет собой свободу информации[62]. При этом следует отметить, что свобода информации предоставляет возможность получать сведения именно из общедоступных источников[63]. В то же время Закон о регулировании доступа к информации Союза (Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes, краткое название – Закон о свободе информации, Informationsfreiheitsgesetz), а также земельное законодательство предоставляют уже каждому право требовать получения информации от органов публичной власти, с сопровождаемой данным источником диаметрально противоположной обязанностью, данное право следует отделять от указанной выше свободы[64]. Таким образом, в России и Германии сложились разные подходы к пониманию свободы информации: узкий в Германии и широкий в России. Следствием этого является и разный характер соотношения исследуемого понятия со свободой массовой информации. В российском конституционном праве свобода массовой информации и свобода информации соотносятся как частное и общее соответственно; в немецком – как две взаимосвязанные, но независимые категории.
Подводя итог всему обозначенному ранее, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, необходимо констатировать, что свобода массовой информации является по своей природе субъективной свободой. При этом в данном понимании ее не следует отождествлять с субъективным правом. На данный вывод указывает ряд следующих характеристик.
1. Свобода массовой информации, как и все субъективные свободы, имеет своей целью обозначение сферы общественных отношений, в которую не допускается вмешательство государства, кроме как в установленных законом случаях.
2. Свобода массовой информации является неотъемлемой характеристикой природы человека как субъекта, не находящегося под чьим-либо внешним управлением или давлением, в отличие от субъективных прав, представляющих собой внешний атрибут правового статуса человека, необходимый для получения им определенных благ.
3. Свобода массовой информации не корреспондирует контрагентам личности обязанности по совершению каких-либо положительных действий, необходимых для реализации свободы. Свобода массовой информации может быть реализована личностью самостоятельно.
Во-вторых, свободу массовой информации можно определить, как возможность индивида самостоятельно и (или) посредством создания и функционирования средств массовой информации быть субъектом общественных отношений, складывающихся в сфере производства, получения, передачи, поиска и распространения массовой информации.
В-третьих, необходимо четко терминологически различать свободу массовой информации и близкородственные ей свободу печати и свободу информации. Наиболее предпочтительным пониманием соотношения свободы массовой информации со свободой печати представляется подход, получивший широкое распространение в Германии, согласно которому свобода печати, исторически возникнув раньше свободы массовой информации, формально была поглощена второй. При этом суть свободы массовой информации изменилась по отношению к свободе печати лишь в части способов и средств распространения сведений. Приверженцем данного подхода в России является С. Н. Шевердяев.
В то же время следует разделять понятия «свобода информации» и «свобода массовой информации». Соотношение данных понятий в России и Германии различно: в России получил распространение широкий подход к пониманию свободы информации, при котором свобода массовой информации является ее составным элементом; в Германии – узкий, при котором свобода информации и свобода массовой информации – близкие, пересекающиеся в некоторых плоскостях свободы, но при этом не поглощающие друг друга.
§ 1.2. Свобода массовой информации как конституционная ценность в отечественной и немецкой конституционной доктрине
Одной из авторских позиций является понимание свободы массовой информации как конституционной ценности. Соответствующее утверждение в условиях современного конституционного строя как РФ, так и ФРГ воспринимается в качестве юридической аксиомы. Однако представляется необходимым обозначение тех существенных характеристик свободы массовой информации, которые позволяют утверждать высокую аксиологическую роль свободы массовой информации. Кроме того, ставится задача определения свободы массовой информации как конституционной ценности.
Свобода массовой информации в современном мире представляет собой один из важнейших конституционно-правовых институтов. Она нашла свое нормативное отражение в ст. 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Подобное внимание к свободе массовой информации косвенным образом свидетельствует о признании ее важной конституционно-правовой ценностью в современном мире.
Прежде чем перейти к раскрытию свободы массовой информации как конституционной ценности, следует разобраться, что собой представляет сама дефиниция «конституционная ценность». Примечательно, что одними из первых о природе ценностей в теории конституционного права заговорили именно немецкие ученые-правоведы. Так, известный немецкий конституционалист XX века, Рудольф Сменд в своей работе 1928 года «Конституция и конституционное право» (Verfassung und Verfassungsrecht), рассматривал конституцию как живую реальность, объединенную на основе общественных ценностей, являющихся воплощением немецкой нации[65]. Следовательно, по Сменду, сама конституция представляет собой не что иное, как сложный ценностный комплекс. Другим видным немецким юристом, первопроходцем в изучении конституционных ценностей был Альберт Гензель. В своем труде «Основные права и политическое мировоззрение» (Grundrechte und politische Weltanschauung) он утверждал, что «содержание любой правовой системы является реализацией конституционно установленной системы ценностей»[66]. Несмотря на то что в данном труде А. Гензель не дает определения понятия правовых ценностей, из указанного выше тезиса можно сделать вывод, что данные ценности предопределяют содержание всей правовой системы любого государства. Соответственно, от их качественного содержания зависит то, как будет выглядеть вся система не только государственных, но и публичных в целом, а также частных отношений конкретной страны.
Таким образом, ни Р. Сменд, ни А. Гензель не дают в своих работах определения конституционных ценностей. Однако ученые, характеризуя конституционные ценности, указывают на их основные качества: во-первых, определение самой сути конституции и правовой системы государства в целом; и во-вторых, их общую значимость для всего народа конкретной страны, в данном случае Германии.
Определенный вклад в раскрытие категории конституционных ценностей был внесен Федеральным Конституционным Судом Германии. В постановлении ФКС от 15 января 1958 года по делу Люта (Lütha) было указано на то, что «Основной закон [ФРГ, 1949], который не представляет собой нейтральную в ценностном отношении систему, в своей главе об основных правах установил объективный порядок ценностей, правильно и то, что как раз в этом выражается принципиально более весомое значение основных прав. Эта система ценностей, ставящая в центр внимания свободно развивающуюся личность и ее достоинство в условиях социальной общности, должна распространяться в качестве основного конституционно-правового решения на все области права; она дает импульсы и указывает перспективы развития законодательству, администрации и судопроизводству»[67]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993: в ред. Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416.
2
The ranking // Reporters Without Borders. URL: https://rsf.org/en/ranking (дата обращения: 22.10 2023).
3
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 // Российская газета. 2020. № 7.
4
Еремян В. В. Есть ли у компаративиста повод для оптимизма? (Российская Конституция как «зеркало» государственного строительства) // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2018. № 2 (121). С. 1.
5
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 // Официальный сайт Президента России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/65418 (дата обращения: 09.05.2021).
6
См.: Невинский В. В. Интернационализация предмета конституционного права России // Интернационализация конституционного права: современные тенденции: монография / под ред. Н. В. Варламовой и Т. А. Васильевой. М.: ИГП РАН, 2017. С. 50–56.
7
The ranking // Reporters Without Borders. URL: https://rsf.org/en/ranking (дата обращения: 22.10.2023).
8
См.: Локинская С. А. Свобода массовой информации: конституционно-правовое исследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. 23 с.
9
Фролова И. Г. Конституционно-правовые гарантии свободы массовой информации в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2012. С. 8.
10
10 Лысова Е. В. Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации: понятие, системы, основные тенденции развития: конституционно-правовой анализ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2004. С. 8.
11
Саркисова Н. А. Средства массовой информации и реализация гражданами политических прав и свобод в современной России // Юристъ-Правоведъ. 2009. С. 125.
12
Hamburgisches Pressegesetz vom 29. Januar 1965: letzte berücksichtigte Änderung: § 11а neu gefasst durch Gesetz vom 18. Mai 2018 (HmbGVBl. S. 184).
13
Кулапов В. Л. Теория государства и права: учебник. Саратов, 2011. С. 477.
14
Фролова И. Г. Конституционно-правовые гарантии свободы массовой информации в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2012. С. 8.
15
Каракотов Р. М. Конституционно-правовые основы и проблемы реализации свободы массовой информации в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 8.
16
Погребинская Л. А. Реализация конституционной свободы массовой информации: российское законодательство и практика его применения: автореф. дис… канд. юрид. наук. Тюмень, 2009. С. 8.
17
Куликова С. А. Конституционный запрет цензуры в России: монография / под ред. Г. Н. Комковой. М.: Проспект, 2016. С. 11.
18
Елизаров В. Г. Свобода массовой информации в Российской Федерации: конституционные основы и правовые ограничения: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 25.
19
Сусликов С. А. Конституционно-правовое регулирование средств массовой информации в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 27.
20
20 См.: Трофимов М. С. Реализация права на свободу массовой информации в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа: автореф. дис… канд. юрид. наук. Ставрополь, 2005. С. 8–9.
21
Scheuner U. Pressefreiheit // Staatsaufsicht in Verwaltung und Wirtschaft, Aussprache zu den Berichten in den Verhandlungen der Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer zu Saarbrücken vom 9. bis 12. Oktober 1963. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1965. S. 2.
22
Schnur R. Pressefreiheit // Staatsaufsicht in Verwaltung und Wirtschaft, Aussprache zu den Berichten in den Verhandlungen der Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer zu Saarbrücken vom 9. bis 12. Oktober 1963. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1965. S. 101.
23
Prinzing M. Pressefreiheit in Europa. Eine Bestandsaufnahme // Aus Politik und Zeitgeschichte. Pressefreiheit. 2016. S. 16.
24
Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 234.
25
Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов. М., 2007. С. 180.
26
Гоббс Т. Левиафан. М.: РИПОЛ классик, 2017. С. 204.
27
Спиноза Б. Сочинения: в 2 т. Т. 1. 2-е изд., стер. СПб.: Наука, 2006. С. 253–254.
28
См.: Levakin I. Juridification of freedom in Europe: legal history // Journal of Constitutional History. 2017. Vol. 33. № 1. P. 163.
29
Конвенция о защите прав и основных свобод человека и гражданина (принята в Риме 04.11.1950; ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом № 54-ФЗ от 30.03.1998) (в ред. Протокола № 11 от 11.05.1994) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
30
30 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // Российская газета. 1995. № 67.
31
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416.
32
Эбзеев Б. С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: монография. 2-е изд. М.: Проспект, 2013. С. 148.
33
Эбзеев Б. С. Конституционное право России: учебник. М.: Проспект, 2019. С. 311.
34
См.: Тхабисимова Л. А., Урумов А. В. К вопросу о закреплении прав и свобод человека и гражданина в конституциях республик – субъектов Российской Федерации // Ученые записки юридического факультета. 2015. № 39 (49). С. 37–42.
35
Нарутто С. В. Определенность законодательства как гарантия прав и свобод человека и гражданина в конституционно-судебной доктрине // Lex russica (Русский закон). 2018. № 10 (143). С. 42.