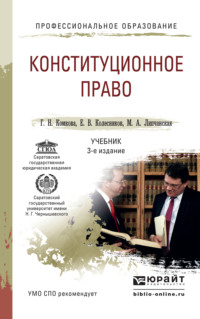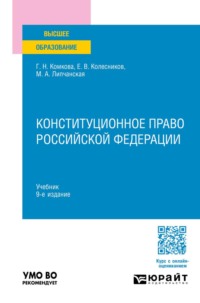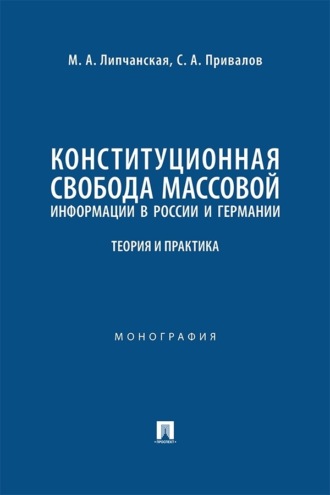
Полная версия
Конституционная свобода массовой информации в России и Германии. Теория и практика. Монография

М. А. Липчанская, С. А. Привалов
Конституционная свобода массовой информации в России и Германии
Теория и практика
Монография
© Липчанская М. А., Привалов С. А., 2024
© ООО «Проспект», 2024
* * *Авторы:
Липчанская М. А., доктор юридических наук, профессор Высшей школы правоведения ИГСУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, профессор кафедры конституционного права имени Н. В. Витрука Российского государственного университета правосудия – § 1.4 гл. 1;
Привалов С. А., кандидат юридических наук, доцент Саратовской государственной юридической академии – введение, § 1.1–1.3 гл. 1, гл. 2, 3, заключение.
Рецензенты:
Комкова Г. Н., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующая кафедрой конституционного и муниципального права Саратовского национального исследовательского государственного университета;
Нарутто С. В., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Введение
Принятие 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании действующей Конституции Российской Федерации привело к существенному реформированию всей системы конституционных прав и свобод человека и гражданина. Одной из новых конституционных субъективных свобод стала гарантируемая ч. 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации свобода массовой информации. Данная свобода представляет собой важную составляющую демократического правового государства, особенно в условиях развития информационно-коммуникативного общества. Развитие информационных и цифровых технологий открывает новые горизонты как для поступательного развития российского демократизма, в том числе посредством совершенствования реализации и защиты свободы массовой информации, так и для дестабилизирующего воздействия на сложившиеся основы общественного и государственного порядка посредством как ущемления свободы массовой информации, так и злоупотребления ею. Данная перспектива детерминировала дополнительное гарантирование в рамках конституционной реформы непосредственно Российской Федерацией обеспечения безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных[1].
Однако в современной России существуют серьезные проблемы в сфере реализации свободы массовой информации, в том числе посредством СМИ, о чем свидетельствуют предоставленные статистические данные. Так, согласно индексу свободы прессы, ежегодно составляемому международной организацией «Репортеры без границ», Российская Федерация в период с 2018 по 2023 год занимала 148–164 места из 180 (2018 г. – 148, 2019 г. – 149, 2020 г. – 149, 2021 г. – 150, 2022 – 155, 2023 – 164)[2].
Необходимость изменения данной ситуации продиктована высокой ролью свободы массовой информации в обеспечении сохранения культурного наследия России, его приумножения, защиты традиционных для российского общества ценностей. О важности сохранения указанных ориентиров общественного развития говорил Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года[3]. Достижение цели их защиты приобретает особую актуальность в условиях, когда «коллективный Запад» и целый ряд восточноевропейских государств все чаще и шире применяют методологию двойных стандартов и стереотипов, используемую при легитимации действий «своих» и «чужих»[4]. Соответствующий вектор политики стран «коллективного Запада» проявляется в том числе и в многочисленных отказах с их стороны в налаживании международного диалога в области информационной и кибербезопасности, на что указал В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года[5].
Стремление к обеспечению сохранности и дальнейшего развития традиционных ценностей нашло свое выражение в поправках к Конституции РФ от 14 марта 2020 года. В частности, новая ст. 67.1, а также новые редакции ст. 68 и ст. 69 Конституции РФ направлены на сохранение таких традиционных отечественных культурных ценностей, как память предков; историческая правда; духовное, нравственное, интеллектуальное развитие детей; этнокультурное и языковое многообразие; общероссийская культурная идентичность. Достижение указанной цели возможно лишь при обеспечении эффективного функционирования СМИ как институтов формирования общественного мнения и, следовательно, адекватной реализации свободы массовой информации, гарантированной Конституцией Российской Федерации.
Одной из тенденций современного мира является процесс всеобъемлющей глобализации, характерной также и для информационной сферы. Глобализация обусловливает возрастание влияния правовых систем различных государств друг на друга, выражающегося во взаимной рецепции правового опыта. Соответствующий процесс характерен в том числе и для отрасли конституционного права[6]. Взаимное обогащение правовых систем различных государств актуализирует проведение научных сравнительно-правовых исследований, имеющих целью гармонизацию указанных процессов.
Выбор Германии в качестве объекта для проведения сравнительного конституционно-правового исследования детерминирован рядом причин: во-первых, определенной схожестью конституционно-правовых институтов РФ и ФРГ: обе страны относятся к романо-германской правовой семье, являются федерациями, применяют одну модель конституционного контроля – австрийскую. Во-вторых, исторически Россия имеет очень тесные культурные, экономические и политические связи именно с немецкими государствами. В-третьих, Германия является одной из ведущих демократических стран в мире, о чем свидетельствует индекс свободы прессы – ФРГ занимает 21-ю позицию в мире в 2023 году среди 180 государств[7].
В связи с указанной близостью РФ и ФРГ в правовом, политическом, экономическом планах, а также высоким уровнем немецкого демократизма представляется полезным проведение сравнительного анализа немецкого законодательства о свободе массовой информации, решений Федерального Конституционного суда Германии, практики функционирования институтов гражданского общества в сфере деятельности средств массовой информации.
Глава 1. Свобода массовой информации как конституционная категория и конституционная ценность в Российской Федерации и Федеративной Республике Германия
§ 1.1. Понятие и сущность свободы массовой информации в конституционном праве России и Германии
Демократический режим, который на современном этапе развития человечества является ориентиром для подавляющего числа государств мира, одним из своих атрибутов имеет свободу массовой информации. Ее роль в демократическом обществе обусловливается необходимостью оперативно создавать и распространять среди неограниченно большого круга лиц обширные массивы информации, касающиеся наиболее значимых общественных вопросов.
Рассматривая свободу массовой информации, следует прежде всего отметить многогранность данной категории[8]. Конституционно-правовую категорию свободы массовой информации можно трактовать через разные, но при этом взаимосвязанные понятия. Во-первых, свободу массовой информации можно рассматривать как конституционный принцип современной демократии. Так, по мнению И. Г. Фроловой, в узком смысле свободу массовой информации можно рассматривать в качестве конституционно-правового принципа, руководящей идеи, определяющей направление правового регулирования информационных прав в целом и массовой информации в частности[9]. Как конституционно-правовой принцип рассматривает свободу массовой информации и Е. В. Лысова[10]. Данный подход опирается на то, что в основе идеальной, подлинно демократической модели политической коммуникации лежит равноправный обмен информацией, диалог между основными политическими группами общества[11]. Возможность понимания свободы массовой информации в таком ключе исходит также из установления немецким региональным законодателем на примере Свободного ганзейского города Гамбурга тезиса, согласно которому свободная пресса должна служить созданию свободного демократического основополагающего строя[12].
Во-вторых, свободу массовой информации можно рассматривать в качестве соответствующего правового режима. Под правовым режимом в юриспруденции обычно понимают особый порядок правового регулирования, который состоит в использовании определенного комплекса юридических средств и способов достижения желаемых целей[13]. В таком ключе раскрывает широкую трактовку свободы массовой информации И. Г. Фролова, согласно которой она представляет собой комплекс субъективных прав, позитивных обязательств, ограничений, пределов и запретов[14]. Близкое по содержанию к широкой трактовке И. Г. Фроловой определение свободы массовой информации дает Р. М. Каракотов, который понимает под ней «установленные законодательством Российской Федерации объективные возможности, ограничения и запреты для физических и юридических лиц в сфере поиска, получения, производства, распространения и хранения сообщений и сведений при помощи средств массовой информации»[15]. Заслуживает внимания определение, данное Л. А. Погребинской: «Конституционная свобода массовой информации – гарантированное Основным Законом государства состояние гражданского общества, при котором осуществляется беспрепятственное производство, поиск, получение и распространение сведений, сообщений, предназначенных для неопределенного круга лиц, отсутствует цензура»[16]. Исходя из него, свобода массовой информации представляет собой правовой режим функционирования гражданского общества, который обеспечивает беспрепятственные процессы создания и циркуляции массовой информации. Однако стоит не согласиться с данным определением в полной мере, поскольку отождествление режима свободы массовой информации исключительно с состоянием гражданского общества исключает государство, его органы и должностные лица из субъектов данного режима, что представляется ошибочным. Рассмотрение свободы массовой информации в качестве правового режима имеет большое значение для понимания процессов производства и распространения массовой информации в практической плоскости. Можно сказать, что свобода массовой информации в непосредственном понимании ее как субъективной свободы получает свое практическое воплощение именно посредством реализации правового режима. В связи с этим далее в данном исследовании при изучении свободы массовой информации в практической плоскости часто внимание будет уделяться именно режиму свободы массовой информации.
В-третьих, свободу массовой информации можно рассматривать как конституционно-правовой институт. Как указывает С. А. Куликова, институт свободы массовой информации применительно к российскому праву представляет собой совокупность правовых норм, содержащихся в Конституции РФ, международных актах, декларациях, Законе РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» и иных федеральных законах, подзаконных нормативно-правовых актах, регулирующих отношения в сфере обращения массовой информации[17]. Данный конституционно-правовой институт в РФ и ФРГ представлен положениями ч. 5 ст. 29 российской Конституции и абз. 1 ст. 5 немецкого Основного закона соответственно, а также принятыми на их основе и в целях их конкретизации нормативно-правовыми актами федерального, а для Германии также и регионального уровня. Кроме того, в данную систему входят и нормы международных правовых актов России и Германии. Подробно институт свободы массовой информации в РФ и ФРГ будет рассмотрен в § 2.1 главы 2.
В-четвертых, следует признать, что свободу массовой информации можно рассматривать как конституционную ценность. Подробная трактовка данного понимания свободы массовой информации будет рассмотрена в следующем параграфе данной главы.
В-пятых, свободу массовой информации часто рассматривают как субъективное конституционное право либо группу прав. В частности, такой точки зрения придерживается В. Г. Елизаров, по мнению которого свобода массовой информации представляет собой комплекс прав, включающий права свободно искать, получать, передавать, производить и распространять массовую информацию любым законным способом, осуществление которых связано с ограничениями, установленными в соответствии с Конституцией Российской Федерации в той мере, в которой это необходимо для защиты прав и законных интересов других лиц, а также в иных конституционно обоснованных целях ограничений[18]. Близкое по смыслу определение свободы массовой информации дает С. А. Сусликов: «Свобода массовой информации – это комплекс прав, включающий права свободно искать, получать, передавать, производить и распространять массовую информацию любым законным способом, а также учреждать средства массовой информации, владеть, пользоваться и распоряжаться ими, за исключением ограничений необходимых в демократическом обществе и установленных федеральным законом о СМИ»[19]. Подобное определение свободы массовой информации дает и М. С. Трофимов[20].
Признание свободы массовой информации как субъективного конституционного права получило широкое распространение и в немецкой конституционной доктрине. Так, по мнению Ульриха Шойнера, свобода печати (которая, как будет позже установлено, является по своей природе аналогом свободе массовой информации в ФРГ) представляет собой одно из гражданских, политических основных (конституционных) прав[21]. Аналогичной точки зрения придерживался и Роман Шнур[22]. Данная позиция была высказана еще в 1963 году, однако и по сей день она имеет место в немецкой конституционной доктрине. Так, по мнению Марлис Принцинг, свобода печати подразумевает, с одной стороны, право на создание средств массовой информации, а с другой – право на распространение информации и различных мнений[23].
Стоит отметить, что данное понимание природы свободы массовой информации основано на подходе, отождествляющем категории субъективного права и субъективной свободы. Подобное отождествление получило широкое распространение в отечественной конституционной доктрине. Такой точки зрения придерживается, например, Н. В. Витрук[24]. Аналогичное понимание соотношения субъективной свободы и субъективного права у М. В. Баглая, который считает, что данные термины по существу тождественны друг другу, а различие объясняется только тем, что такая юридическая лексика сложилась исторически[25].
Однако наиболее верным представляется понимание свободы массовой информации в качестве субъективной свободы, являющейся самостоятельной правовой категорией по отношению к категории субъективного права. Для обоснования данной точки зрения следует рассмотреть природу субъективной свободы и субъективного права как самостоятельных по отношению друг к другу правовых явлений и выявить их принципиальные различия.
Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению субъективной свободы массовой информации в конституционно-правовом аспекте, необходимо определить, что представляет собой в целом категория свободы. Существует множество точек зрения на определение свободы лишь в одной философской науке. Так, по мнению известного английского просветителя Томаса Гоббса, свободным человеком является тот, которому ничто не мешает делать то, что он желает, поскольку он по своим физическим и умственным способностям в состоянии это сделать[26].
Другой известный мыслитель Бенедикт Спиноза называет свободной такую вещь, «которая существует по одной только необходимости своей собственной природы и определяется к действию только сама собой»[27]. Таким образом, свобода представляет собой состояние, при котором явление существует без внешней детерминации, определяясь лишь собственной сущностью.
Таким образом, на основе всего сказанного выше можно сделать вывод, что свобода – это состояние человека, характеризующее его способность самостоятельно, независимо от внешних и внутренних детерминантов принимать и реализовывать решения исходя из собственных физических и интеллектуальных возможностей, с учетом естественных потребностей.
Однако необходимо понимать, что описанной выше абсолютной свободы человека в условиях общества достичь невозможно. Бесконечное стремление одного человека к достижению максимально возможной свободы чревато ущемлением свободы других людей, а также интересов общества. Возникает необходимость в определении разумных мер свободы, и, как следствие, складывается правовое понимание данной категории. Впервые оно было сформулировано во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года: «Свобода состоит в возможности делать все, что не вредит другому». Иными словами, свобода одних лиц ограничивается свободой других[28]. По своей природе данное понимание свободы характеризует общее состояние личности как независимого субъекта. В то же время сегодня в юриспруденции, помимо данного широкого подхода к пониманию свободы, существует и узкий, заключающийся в возможности личности совершать конкретные действия или воздерживаться от их совершения – субъективная свобода. В теории права субъективную свободу часто отождествляют с субъективным правом. Однако такой подход представляется не соответствующим в полном объеме природе субъективной свободы.
Отсутствие единого подхода к соотношению субъективного права и свободы прослеживается также и в международном нормотворчестве. Так, например, Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года – базовые нормативно-правовые акты международного уровня, входящие в правовую систему как РФ, так и ФРГ – используют в своих текстах оба термина, однако подходы к их соотношению разнятся. Конвенция о защите прав человека и основных свобод использует данные понятия в качестве синонимов. Об этом свидетельствуют формулировки норм, изложенных в ст. 9 (свобода мысли, совести, религии), 10 (свобода выражения мнения), 11 (свобода собраний и объединений)[29]. В свою очередь, Всеобщая декларация прав человека закрепляет права на те или иные свободы – ст. 18–20[30]. То есть, исходя из подобного характера изложения, право является средством достижения свободы в той или иной сфере общества.
В национальном законодательстве России и Германии найти однозначный и прямой ответ на данный вопрос также не представляется возможным. Однако используемые Конституцией Российской Федерации и Основным законом Федеративной Республики Германия (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) формулировки позволяют сделать определенные выводы. Так, в российской Конституции правам и свободам человека и гражданина посвящена вторая глава, которая так и называется: «Права и свободы человека и гражданина». Уже сама по себе подобная формулировка названия главы предопределяет отдельное существование прав и свобод личности. В данной главе Конституции закреплены следующие свободы: свобода передвижения (ст. 27), свобода совести и свобода вероисповедания (ст. 28), свобода мысли, слова, информации и массовой информации (ст. 29), свобода объединений (ст. 30), свобода собраний (ст. 31), свобода предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34), свобода труда (ст. 37), свобода творчества (ст. 44)[31].
Для более глубокого изучения природы данных явлений обратимся к конституционной доктрине.
По мнению Б. С. Эбзеева, «свобода» граждан призвана обеспечить индивидуальную автономию личности в некоторых жизненно важных ее проявлениях. Речь идет о так называемом отрицательном правовом статусе индивида: государство признает за личностью определенную сферу отношений, которая отдана на его усмотрение и не может быть объектом притязания государства[32]. При этом Конституция, как правило, не раскрывает нормативное содержание основных свобод и не указывает многочисленные формы их практического осуществления, ограничиваясь лишь установлением общих критериев пользования гражданами социальными благами, заключенными в свободах[33]. Нечеткие, неконкретные формулировки способов реализации основных свобод характерны также и для основных законов субъектов Российской Федерации[34]. В подобных ситуациях законодательная неопределенность является необходимой и относится к одним из тех случаев, в которых, как пишет С. В. Нарутто, она должна рассматриваться как необходимый метод регулирования, позволяющий на практике в конкретной ситуации использовать гибкость правового регулирования для достижения оптимального результата[35]. Основные права, в свою очередь, формируют положительный правовой статус, поскольку они отличаются от свобод возможностью требовать от государства положительной деятельности по обеспечению признанных Конституцией за индивидом прав[36].
По мнению Л. П. Рассказова, между правами и свободами можно выделить следующие отличия: права могут быть реализованы лишь при наличии соответствующей (корреспондирующей) обязанности у контрагента, свободы индивид может реализовать самостоятельно; права существуют лишь при закреплении в позитивном праве, свободы нуждаются в праве только как в способе их ограничения или ограничения противоправных действий других субъектов; в случае споров с государственным органом, должностными лицами носитель права должен привести законное обоснование своего права, в случае споров, связанных с реализацией свободы, государственный орган, должностные лица обязаны привести обоснование ограничения свободы[37]. Следует согласиться с утверждением А. В. Малько и В. А. Терехина, согласно которому не все аргументы в данном утверждении бесспорны. Так, вызывает возражение второй довод, поскольку он входит в противоречие с естественно-правовой доктриной прав человека[38].
Субъективное право выражает вид и меру возможного поведения человека[39]. Оно предоставляет личности возможность действовать тем или иным образом в целях извлечения каких-либо благ и требовать определенной деятельности со стороны контрагентов личности, в первую очередь со стороны государства. То есть любое субъективное право продиктовано существованием у любого человека необходимости достижения определенных благ для его полноценной общественной субъектности.
В свою очередь свобода, в том числе и субъективная, не имеет детерминантов (в противном случае она была бы необходимостью). Субъективные свободы представляют собой характеристики человека как субъекта, соединяющего в себе биологическое и социальное начала. В отличие от прав, которые являются порождением природы человека и зависят целиком и полностью от него, субъективные свободы представляют собой часть человеческой природы. Вследствие этого субъективные свободы реализуются в процессе нормальной жизнедеятельности человека, как бы по умолчанию. Главная задача субъективных свобод личности – обозначить границу допустимых действий для иных субъектов общественной жизни, в том числе государства, нарушение которой возможно лишь в исключительных, установленных законом случаях (данный вопрос будет рассмотрен в параграфе, посвященном ограничениям свободы массовой информации).
При этом свобода массовой информации является именно субъективной свободой, поскольку, во-первых, ее реализация не преследует для личности извлечения каких-либо благ и позволяет лишь ей проявлять себя как субъекта со сложной биосоциальной природой. Во-вторых, в отличие от субъективных прав, свобода массовой информации не требует исполнения со стороны иных субъектов человеческого общежития каких-либо юридических обязанностей, устанавливая определенную границу их дозволенного поведения.
Таким образом, под субъективной свободой следует понимать объективную способность человека быть субъектом конкретных общественно-правовых отношений. Основываясь на данном общем определении субъективной свободы, можно вывести понятие непосредственно свободы массовой информации. Свобода массовой информации как субъективная свобода – возможность индивида самостоятельно и (или) посредством создания и функционирования средств массовой информации быть субъектом общественных отношений, складывающихся в сфере производства, получения, передачи, поиска и распространения массовой информации.
При этом следует отметить, что такая свобода не является безграничной. Свобода массовой информации имеет свои естественные границы, которые определяются существованием иных конституционных благ.
Именно свобода массовой информации как субъективная свобода является базовой категорией, изучаемой в данном исследовании, что определено ее центральным положением в комплексе иных подходов к пониманию природы данной свободы, определяющим их содержание.
Говоря о сущности свободы массовой информации, правильным будет рассмотреть и ее соотношение с иными близкими по сущности свободами: свободой печати и свободой информации. Начнем с соотношения со свободой печати. Стоит отметить, что в законодательстве Российской Федерации отсутствует категория свободы печати. В то же время ст. 29 российской Конституции закрепляет свободу массовой информации[40]. Соответствующая правовая категория раскрывается и в Законе Российской Федерации «О средствах массовой информации»[41]. В свою очередь, в ФРГ большая часть нормативно-правовых актов говорит именно о свободе печати (свободе прессы) – die Pressefreiheit. Данная свобода закреплена, например, в саксонском законе о прессе (Sächsisches Gesetz über die Presse)[42]. Исторически раньше возникла категория свободы печати. Впервые о необходимости существования указанной свободы и недопустимости цензуры высказался в 1644 году английский мыслитель Джон Мильтон в своем известном трактате «Ареопагитика»[43]. Правовое закрепление данная свобода впервые получила во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года. Использование же более широкой конструкции – свободы массовой информации – получило распространение после принятия ряда международно-правовых актов универсального уровня. Так, ст. 19 Всеобщей декларации прав человека устанавливает правило, согласно которому «каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ»[44]. Формулировка, управомочивающая человека на свободные поиск, получение и распространение информации и идей с использованием любых средств без учета государственных границ подразумевает в первую очередь возможность использования в этих целях средств массовой информации, поскольку на тот момент только их использование давало информационному обмену экстерриториальный характер. Аналогичные нормативные положения закреплены также в ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года и в ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года (оба акта ратифицированы Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия).