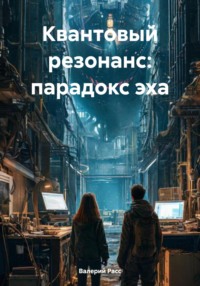Полная версия
Мой верный друг

Валерий Расс
Мой верный друг
Верный друг: История о моём друге – собаке по имени Дик.
Я не помню того дня, когда Дик появился в нашем доме. Был я тогда совсем маленьким мальчиком, и воспоминания о первой встрече стерлись из памяти, словно рисунок на запотевшем стекле. Но сам Дик, его характер, его душа – всё это навсегда отпечаталось в моём сердце с такой ясностью, будто он до сих пор сидит рядом, положив морду мне на колени.
Дик был карельской лайкой – статным, крепким псом тёмно-коричневого окраса с редкими чёрными пятнами, разбросанными по телу словно брызги чернил. Но самой заметной его чертой был хвост – закрученный в спираль, как диковинная морская раковина. Этот хвост всегда выдавал его настроение: когда Дик радовался, спираль закручивалась ещё туже, а когда тревожился – чуть распрямлялась, подрагивая на конце.
Глядя в его умные, почти человеческие глаза, я часто ловил себя на мысли, что передо мной не просто собака, а существо, понимающее этот мир гораздо глубже, чем можно было предположить. Казалось, что Дик – это человек, волею судьбы заключённый в собачье тело, не способный говорить, но умеющий понимать и чувствовать не хуже, а порой и лучше нас, людей.
В нашем доме никогда не звучали команды «сидеть», «лежать» или «апорт». Дик не был дрессированной цирковой собакой, выполняющей трюки за лакомство. Он был другом, равным, с которым мы просто разговаривали. «Дик, принеси, пожалуйста, мои ботинки» – и через минуту он уже тащил их из прихожей. «Отнеси это письмо соседке» – и Дик, бережно взяв конверт в зубы, трусил через двор к соседскому дому. Некоторые мои приятели не верили, что собака может понимать человеческую речь так хорошо. Они считали, что всё дело в интонации, в жестах, в скрытых командах. Но я-то знал правду.
Однажды утром я сидел за столом, готовя уроки, и вдруг вспомнил, что забыл книгу на крыльце.
– Дик, – сказал я, не отрываясь от тетради, – слушай, я вчера оставил книгу на крыльце. Сгоняй, принеси, а?
Дик, дремавший у печки, поднял голову, внимательно посмотрел на меня, словно переспрашивая: «Ту самую, в синей обложке?» – и, потянувшись, направился к двери. Через минуту он уже толкал носом мою ногу, держа в зубах нужную книгу.
Мама, наблюдавшая эту сцену, только покачала головой и улыбнулась:
« – Иногда мне кажется, что он понимает каждое наше слово», – сказала она, – даже то, что мы не произносим вслух.
И я был с ней полностью согласен. За четырнадцать лет жизни с нами Дик не раз доказывал свою необыкновенную сообразительность и преданность. Но был один случай, который я вспоминаю особенно часто, случай, поразивший даже видавших виды деревенских старожилов.
Стояло раннее лето. В тот день мы с Диком собрались на рыбалку на нашу местную речку. Путь пролегал через лес – километра три по узкой тропинке между вековых сосен и елей. Для деревенского мальчишки такая прогулка была привычным делом, особенно когда рядом верный пёс. В тех местах водились рыси – большие и опасные лесные кошки. Идти одному без собаки считалось рискованным, потому местные привязывали к спине палку, чтобы она торчала над головой. Рысь, сидящая в засаде среди ветвей, видя такую конструкцию, обычно не решалась напасть. Но с Диком я чувствовал себя в полной безопасности – он бежал впереди, обнюхивая каждый подозрительный куст, и я знал, что ни один хищник не подберётся к нам незамеченным.
Добравшись до реки, я начал готовить снасти. Дик, как всегда, проявлял нетерпение – ходил кругами, то садился рядом, то подбегал к воде, всматриваясь в её глубину, словно помогал мне выбрать лучшее место для рыбалки.
Наконец, удочка была готова, и я закинул её в воду. Дик тут же успокоился и сел рядом, устремив взгляд на поплавок. Это было наше с ним любимое занятие – ждать, когда поплавок дрогнет, возвещая о поклёвке.
Солнце лениво пробивалось сквозь листву, создавая на речной глади причудливую мозаику из света и тени. Я украдкой взглянул на Дика. Он сидел рядом, напряженно всматриваясь в поплавок, словно от этого зависела судьба всей рыбалки. В его карих глазах читалась сосредоточенность охотника, унаследованная от далеких предков.
Дик относился к рыбалке с каким-то особым трепетом. Он никогда не лаял у воды – словно понимал, что шум может спугнуть рыбу. Когда поплавок начинал играть на воде, Дик тихонько толкал меня носом или лапой, будто говоря: «Смотри, клюёт!» Это были самые волнующие моменты для нас обоих.
И вот, устроившись на берегу и любуясь речной гладью, я вдруг с досадой осознал, что в спешке забыл дома сумку с едой. А на рыбалке, как известно, перекус с домашней колбаской и бутербродом – дело святое. Особенно если собираешься провести у воды весь день.
– Вот незадача, – сказал я вслух, обращаясь скорее к себе, чем к Дику. – Забыл сумку с едой дома. Придётся сидеть голодными.
Дик поднял голову и посмотрел на меня с таким пониманием, что стало ясно – он готов решить эту проблему.
– Дик, – сказал я, почти не надеясь на успех, – беги за сумкой, а то мы с тобой голодными останемся!
Я думал, что он просто посмотрит на меня своими умными глазами и вернётся к наблюдению за поплавком. Но Дик тут же вскочил на ноги и, не колеблясь ни секунды, умчался в лес по направлению к дому. Три километра через лес, полный опасностей, за сумкой с едой – это казалось невероятным даже для такой умной собаки, как Дик. Но он побежал, не задумываясь, хотя я уже приготовился ловить рыбу – занятие, которое он обожал больше всего на свете.
Я забросил удочку и стал ждать, не особо веря, что затея с сумкой увенчается успехом. Но собаки бегают быстро, особенно такие сильные и выносливые, как карельские лайки. Я не успел поймать ни одной рыбёшки, как услышал знакомый шорох в кустах. Оглянувшись, я не поверил своим глазам – Дик уже возвращался, и на его спине была привязана та самая сумка от противогаза, которую многие рыбаки в нашей местности использовали для переноски снастей и провианта.
Когда Дик подбежал ближе, я увидел, что сумка аккуратно и надёжно примотана к его телу. Позже мама рассказала, что произошло дома: Дик прибежал один, стал лаять и бегать вокруг сумки, которая висела на сучке берёзы рядом с домом. Мама сразу поняла, в чём дело, и привязала сумку к телу собаки, чтобы ему было удобнее нести её обратно через лес.
Дик подбежал ко мне, виляя хвостом, и сразу же уставился на поплавок, как будто спрашивая: «Где рыбка? Что, ещё не поймал?» В его глазах читалось лёгкое разочарование, но тут же сменившееся оптимизмом: «Это хорошо, сейчас вместе поймаем!»
Я улыбнулся и потрепал его по загривку.
– Терпение, дружище. Это хорошо, что ты вернулся так быстро. Сейчас вместе поймаем.
Дик довольно фыркнул и улегся рядом, положив морду на лапы, но глаз с поплавка не сводил. Я развязал сумку, которую мама так заботливо примостила на собачьей спине, и достал бутерброд с колбасой и разделил его пополам. Половину отдал Дику – он заслужил не только угощение, но и моё бесконечное восхищение.
– Заслужил, герой.
Он аккуратно, почти по-человечески деликатно взял угощение и, не торопясь, со вкусом съел. В такие моменты я особенно остро чувствовал, что Дик – не просто животное. Между нами существовала связь, которую трудно объяснить словами.
В тот день мы поймали много рыбы, но не это было главным. Главным было понимание того, что рядом со мной – не просто собака, а настоящий друг, способный на поступки, которые удивили бы и взрослого человека.
Такие истории о Дике можно рассказывать бесконечно. Каждый день с ним был наполнен маленькими чудесами понимания и дружбы. И каждый раз я убеждался, что мой четвероногий друг обладает душой и разумом, ничуть не уступающими человеческим.
Помню, как однажды осенью мы возвращались с рыбалки затемно. Лес, казавшийся днем таким знакомым и приветливым, в сумерках превращался в таинственное и немного пугающее место. Я шел, стараясь не терять тропинку из виду, а Дик бежал чуть впереди. Вдруг он остановился как вкопанный и издал тихое, утробное рычание.
– Что там? – шепнул я, инстинктивно замедляя шаг.
Дик повернул голову, глянул на меня, а потом снова уставился в темноту леса. Я замер, вглядываясь в чащу, и тут заметил два зеленоватых огонька, мерцающих между деревьев.
Рысь. Сердце ухнуло куда-то вниз. Мы с Диком застыли, боясь пошевелиться. Хищник, казалось, тоже оценивал ситуацию, решая, стоит ли нападать.
Дик медленно подался вперед и встал между мной и опасностью. Его шерсть на загривке поднялась дыбом, но он не лаял – только низкое, угрожающее рычание нарушало тишину леса.
Несколько секунд, показавшихся вечностью, мы стояли в этом странном противостоянии. Затем огоньки моргнули и исчезли – рысь решила не испытывать судьбу и растворилась в лесном сумраке.
Когда опасность миновала, Дик повернулся ко мне, его хвост снова закрутился в привычную спираль, а в глазах читалось: "Всё в порядке, теперь можно идти".
Тот вечер я не забуду никогда. Дик был не просто домашним питомцем, он был моим хранителем, моим проводником в мире природы и моим самым верным другом.
А еще был случай, зимой, когда река покрылась льдом. Мы с Диком пошли на подледную рыбалку. Я просверлил лунку, установил снасти и стал ждать. Дик, как обычно, расположился рядом, но в этот раз его что-то беспокоило. Он то и дело поднимался, принюхивался, нервно переступал с лапы на лапу.
– Что с тобой сегодня? – спросил я, не понимая причины его волнения.
Внезапно он схватил меня за рукав и потянул от лунки. Я удивился, но не придал этому особого значения и вернулся к рыбалке. Дик заскулил и снова потянул меня, на этот раз сильнее и настойчивее.
– Да что такое? – я начал раздражаться, но внезапно услышал треск.
Лед под нами начал проседать. Дик почувствовал опасность раньше, чем я заметил первые признаки. Мы едва успели отбежать на безопасное расстояние, когда участок льда, где мы только что сидели, с хрустом обломился и ушел под воду.
В тот день Дик, возможно, спас мне жизнь. И это был не единственный раз.
Наши рыбалки, наши прогулки по лесу, наши тихие вечера у камина – все эти моменты сплетались в крепкую нить дружбы, которая выдерживала любые испытания. Дик чувствовал мое настроение, знал, когда мне нужно тепло и утешение, а когда – свобода и одиночество.
Четырнадцать лет – немалый срок для собаки, но для настоящей дружбы это лишь мгновение. Каждый день, проведенный с Диком, был особенным. И даже сейчас, спустя столько лет, я закрываю глаза и вижу, как он бежит по берегу реки, как замирает, заметив поклевку, как доверчиво смотрит в глаза, словно говоря: "Я здесь, я с тобой".
Говорят, что собаки не умеют говорить. Но тот, кто хоть раз испытал такую дружбу, знает – им это и не нужно. Они говорят сердцем, и это самый искренний язык на свете.
Музыкальные импровизации с Диком
Когда мне исполнилось девять лет, моя мама приняла важное решение – отправить меня учиться во второй класс в школу-интернат в городе Сортавала. Это была не просто школа, а настоящая сокровищница возможностей, где каждый ребенок мог найти себя: спортивные секции, творческие кружки и, что оказалось судьбоносным для меня – музыкальное направление. Именно там, я впервые взял в руки трубу валторну, инструмент, который впоследствии стал моим верным спутником и источником радости.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.