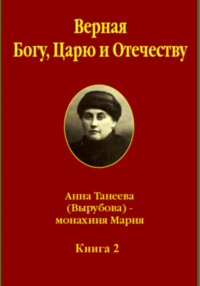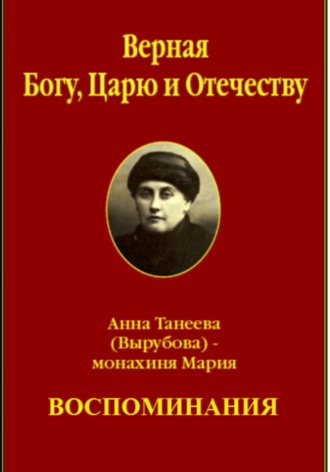
Полная версия
Верная Богу, Царю и Отечеству
Можно предположить, что для монахини Марии дружба с семейством Шуваловых была большим утешением. С Мариной – своей бывшей юной хозяйкой – они были дружны ещё по Выборгу («Дом Эден»), а с Николаем Шуваловым были знакомы по Териокам. Похоже, их связывала, ко всему прочему, общность духовных интересов. Все члены семьи Шуваловых придерживались строгих православных традиций и вели благочестивый образ жизни, что не могло не объединять их с монахиней Марией, для которой служение Богу стало основным содержанием её жизни. Вот как рисует духовную атмосферу в семье Шуваловых Елена Майяла (дочь Марины Павловны Шуваловой-Акутиной):
«Вся наша семья принадлежала к Никольской православной общине, папа был членом её церковного совета более 30 лет. В церковь ходили регулярно. Брату и мне вечерняя служба казалась усыпляюще бесконечной. Соблюдали посты. Семь недель без мяса на Великий пост было тяжким испытанием, но терпели. Привитая с детства традиция просить благословения на приобретение нового пальто или туфелек по-прежнему памятна мне. Дома говорили по-русски, но дети эмигрантов должны были владеть финским и шведским. Ведь окружение было враждебно к нам настроено, надо было как-то выживать в этой недоброжелательной среде»193.
Елена Майяла лично видела монахиню Марию в этот период времени. Вот что она пишет по этому поводу в своих воспоминаниях:
«Мама брала меня с собой, когда навещала фрейлину императрицы на Топелиуксенкату, где та доживала свой век. Помню, что в квартире Вырубовой всегда царил полумрак, лишь на стене отчётливо выделялись портреты царя и царицы. Всё остальное пространство на стенах занимали иконы и фотографии близких ей людей»194.
Николай Шувалов, как и его знаменитый отец Александр Шувалов – владелец кондитерской фабрики в Выборге, были людьми весьма состоятельными. К тому же Николай, как и его отец, занимался меценатством. Именно благодаря Александру и Николаю Шуваловым была оказана огромная помощь в послереволюционные годы русскому художнику Илье Ефимовичу Репину и его семейству. Шуваловы были соседями Репиных по Териокам и фактически спасли их от полной нищеты и разорения. Дети Репина до конца своих дней пользовались неизменным расположением и поддержкой со стороны Николая Шувалова.
«Случилось так, – пишет Елена Николаевна Майяла, – что в 1968 году, находясь в Финляндии, один высокопоставленный советский чиновник изъявил желание посетить финскую семью – очевидно, хотел наглядно представить себе типичный уровень жизни. Мама удовлетворила его просьбу. Каково же было его удивление, когда в частном доме он увидел экспозицию картин Репина, не уступающую музейной!»195
Уже после смерти Н. А. Шувалова часть работ И. Е. Репина была продана в Третьяковскую галерею за символическую плату.
Обладая добрым сердцем и великодушием, Николай Александрович Шувалов не мог не оказывать хотя бы какой-то материальной поддержки крайне нуждавшейся больной соотечественнице. Известно, что кем-то из друзей матушке Марии и её подруге была подарена мебель – возможно, именно её благодетелем Николаем Шуваловым. Наверняка помощь этим не ограничивалась.
В небольшой квартире с непритязательной обстановкой матушка Мария с Верой Запеваловой прожила до конца своих дней. Вера продолжала жить здесь и после смерти своей подруги вплоть до 1980 года. Иеромонах Арсений отмечает, что Анна Александровна никогда не платила жалование Вере Запеваловой, т. к, «пенсии, которую им платила королева Луиза, едва хватало на скудное пропитание. Несмотря на это Вера не бросала Анну, так как дала обещание Надежде Илларионовне Танеевой и, кроме того, испытывала сострадание к Анне и считала её своим другом»196.
По-другому и быть не могло, если учесть характер Анны Александровны – простой и цельный. Она не потерпела бы фальши, а Вера Запевалова была для неё последней подругой, прочные и длительные отношения с которой могли сложиться только при наличии общего духовного расположения.
Помимо квартиры в Хельсинки, у монахини Марии и Веры был дачный домик в Трэсщенде, где они проводили лето. Любимым занятием матушки на даче было рисование акварельными красками. Свои рисунки она дарила или продавала друзьям. Кроме того, она изготавливала пасхальные и рождественские открытки, что, конечно, являлось для неё особым удовольствием, так как служило воспоминанием о том времени, когда за подобным занятием они проводили время вместе с Государыней Императрицей Александрой Феодоровной.
Фельдмаршал МаннергеймВозвращение в Финляндию Анны Вырубовой окружающими было встречено неоднозначно: чувствовалось недоброжелательство. Скорее всего, нередки были случаи открытого проявления неприязни без всякой попытки скрыть своего отношения. Это не могло не бередить прежних душевных ран, нанесённых человеческой несправедливостью и злобой и служило источником постоянных скорбей для монахини Марии. Переживания оказались настолько сильными, а причины, вызвавшие их, столь серьёзными, что она вынуждена была просить помощи и защиты у главы Финского правительства фельдмаршала К. Г. Маннергейма, бывшего генерала царской армии. Полное имя Маннергейма Карл Густав, но в России его предпочитали называть бароном Густавом Карловичем. В ответ на её просьбу Маннергейм дал письменную рекомендацию, текст которой приведён в статье иеромонаха Арсения:
«В течение тридцати лет я знал мадам Анну Танееву и её уважаемых родителей, а также некоторых представителей их рода, и прошу всех, кто будет общаться с Анной Танеевой, [помнить, что она], испытав многие страдания, кроме того, ставшая инвалидом после железнодорожной катастрофы, заслуживает доброго и внимательного отношения.
Хельсинки. 11 июня 1940.
Фельдмаршал Г. Маннергейм»197.
Письмо хранится в Финляндии, в музее Православной Церкви города Куопио. Как утверждает отец Арсений, это «письмо успокоило встревоженную Анну». Она стала чувствовать себя более уверенно. Кроме того, благодаря письменной рекомендации фельдмаршала, удалось получить квартиру на улице Топелиуса.
Густав Маннергейм оказался человеком небезучастным к судьбе Анны Танеевой, но обращение к нему было продиктовано не только соображениями чисто практическими. В его лице матушка Мария надеялась встретить человека, по-прежнему, дорожившего тем миром, воспоминания о котором продолжали согревать её наполненную тяготами и лишениями жизнь. Они были хорошо знакомы, начиная с 1908 года, когда «полковник барон Густав Маннергейм, только что вернувшийся из своего Азиатского похода, в Царском Селе был представлен Танеевой»198.
Он всегда производил благоприятное впечатление человека учтивого, достаточно открытого и непредвзято настроенного. Возобновить знакомство с бывшим царским генералом Г. Маннергеймом Анна Танеева попыталась сразу же, как только она оказалась на финской территории. 23 декабря 1920 года адъютант передал генералу красивую русскую рождественскую открытку, которая была подписана: «Анна Танеефф, Ваасанкату, 13, Виипури». Он незамедлительно ответил по-французски: «Дорогая мадам, меня очень обрадовало, что Вы вырвались из революционного петроградского ада и живёте в семье благородных людей Акутиных, которых я хорошо знаю»199.
«В июле 1930 года и в середине августа 1931 года, когда генерал Густав Маннергейм приезжал в Выборг, Анна пыталась встретиться с ним. Однако попытки были неудачными. В 1930 году сразу по приезде генерал заболел и вернулся в Хельсинки, а в 1931 году Танееву просто не пустили в дом губернатора, где жил Маннергейм, не обращая внимание на её доводы»200.
Всё же встреча между ними состоялась, но гораздо позже, по возвращению матушки Марии из Швеции в 1940 году. На этот раз, будучи человеком весьма учтивым, фельдмаршал послал за ней свою машину. «С большим трудом, с помощью адъютанта Маннергейма подруга русской Императрицы вошла в дом своего старого знакомого в Брюннспарке»201.
Между фельдмаршалом Маннергеймом и бедной русской эмигранткой Анной Танеевой состоялась беседа, которая описана в книге Л. В. Власова «Женщины в судьбе Маннергейма». Это описание документально, так как автор книги опирался на воспоминания самого Маннергейма и переписку между ним и Анной Танеевой. Однако, воспроизводить его полностью мы не будем, поскольку Власову не удалось избежать эмоциональных оценок личности Анны Александровны, навеянных не столько воспоминаниями царского генерала, сколько общепринятыми в отношении Анны Вырубовой стереотипами.
Отметим лишь то, что матушка Мария рассказала всё, что с ней произошло и в революционном Петрограде, и в Финляндии. Но в своём рассказе невольно допустила упрёк в адрес Маннергейма, что он «не прихлопнул» Керенского, когда в начале 1918 года тот спасался в Финляндии, – видимо, «пожалел за то, что он привёл к власти Ленина и Троцкого!» «Эта фраза смутила Маннергейма, и он начал упорно рассматривать свои сапоги». Интерес к её рассказу был потерян, дальше Маннергейм лишь делал вид, что внимательно слушает.
Единственный вопрос, который его занимал, касался Распутина. Как могла она связать свои лучшие годы с ничтожным и заурядным мужиком? В ответ на его вскользь брошенное упоминание о нём монахиня Мария вновь, как и прежде, как и всегда, стала защищать Григория Ефимовича, утверждая, что он не имел влияния на политику, думал только о здоровье Наследника и главным для него был Бог. Но её доводы воспринимались как «ложь». Всё же процитируем отрывок, в котором Власов воспроизводит описание беседы глазами Маннергейма: «Она отключилась от внешнего мира, ориентируясь только на свои внутренние импульсы. Маннергейм много знал и читал о Распутине – хитром мужике, развратнике, священнике и дипломате, поэтому слова Анны ничего нового ему не говорили… Слушая детский лепет Танеевой, Маннергейм подумал: “Жаль её – живую тень молодых лет, которая перешла из России в Финляндию, словно из одной пустоты в другую, ничего не знающая, неизменная и беззащитная”»202.
Так про себя откомментировал фельдмаршал Маннергейм рассказ человека, который, быть может, был единственным, кто знал правду и мог её поведать всему миру. Но мир в лице бывшего царского генерала Густава Маннергейма оставался глух к истине, потому что сам был поражён теми пороками, которые пытался и пытается приписать несчастному Другу Царской Семьи203.
Свидетельством тому служит и сама книга о фельдмаршале Маннергейме, которая, несмотря на несомненный интерес, связанный с приводимыми фактами и документами, тем не менее, изобилует подробностями частной жизни Густава Маннергейма, которые вполне могли бы «украсить» произведения современных авторов с ярко выраженным «клюквенным» уклоном.
Разговор между фельдмаршалом Маннергеймом и монахиней Марией примечателен ещё и вот чем. Он свидетельствует о том, что, пройдя через многие испытания, имея возможность за годы своих злоключений ознакомиться с мнением, доводами, свидетельствами и воспоминаниями множества людей, имея возможность всё взвесить, пересмотреть свои взгляды, разобраться во всех вопросах, касающихся её привязанностей и симпатий, оценить прошлое, увидеть свои ошибки, наконец, подведя итог всему, придти к истине – матушка Мария не переменила своего мнения относительно Григория Ефимовича Распутина-Нового. Она по-прежнему осталась его глубокой почитательницей и защитницей. Это удивительный и очень ценный вывод, так как любая истина проверяется временем и испытаниями. Но ни то, ни другое не поколебали отношения Анны Танеевой (монахини Марии) к Другу дорогих Царственных Мучеников.
Во время визита матушка Мария не просила материальной помощи, а лишь рекомендательное письмо для чиновников. Что и было ей предоставлено «в память о былом». Но «в августе 1943 года Анна и Вера оказались на грани голода. Пенсия из Швеции не поступала. Финский Красный Крест в помощи отказал». Матушка Мария была вынуждена вновь обратиться к Маннергейму с просьбой «хоть чем-нибудь помочь». Свой ответ он начинает с отказа: «Я сам не могу Вам помочь, имея много обязательств, из которых не могу вырваться… Я позвонил в комитет женщин Финляндии (Красного Креста), где мне сказали, что они имеют небольшую сумму Ваших денег. Эта новость меня очень обрадовала…»204
«В начале апреля 1947 года, когда Анна и Вера несколько дней не могли купить хлеба и за неуплату им грозило выселение из квартиры, Анна, в порыве отчаяния, вновь обратилась к Маннергейму. Она умоляла его в память 37-летнего знакомства оказать ей и Вере “самую скромную финансовую помощь”. 25 мая 1947 года пришёл ответ:
“Дорогая мадам, я извиняюсь, что заставил Вас так долго ждать ответа, но я не хотел Вам писать, не наведя справок: могу ли я найти средства, чтобы помочь Вам. На это ушло больше времени, чем я думал, из-за некоторых срочных дел, которые по возвращении ждали меня. К сожалению, мои попытки не увенчались успехом, и я не могу помочь Вам. Я говорил Вам об этом несколько лет тому назад. С тех пор Вы могли сами, живя в стране, учитывая беспорядки, уменьшить свои требования до минимума. Примите, дорогая мадам, мои искренние сожаления, мои лучшие пожелания и заверения в моих чувствах и симпатиях к Вам.
Маннергейм”»205.
Далее в книге Власова сообщается, что в соответствии с финансовыми документами, хранящимися в архиве Маннергейма в Хельсинки, через семнадцать дней после того, как Танеева получила отказ, он высылает дочерям в Лондон и Париж 200 тысяч франков. «От голодной смерти Анну и Веру спасла помощь сердобольных русских и пенсия королевы Швеции, которая неожиданно стала снова поступать даже с компенсацией за военные годы»206.
Несмотря на помощь, оказанную кем-то из бывших соотечественников (возможно, её благодетелем Николаем Шуваловым), в целом отношение к Анне Вырубовой в эмигрантской среде оставалось по-прежнему неприязненным и настороженным, что, безусловно, повлияло, как уже было сказано, на её решение не навязывать себя никому, а остаться в одиночестве, общаясь лишь с немногими близкими ей людьми. Поэтому несмотря на то, что у неё было много знакомых и друзей среди русских эмигрантов, в том числе и состоятельных, матушка Мария не стремилась к общению с ними и, особенно после войны, жила почти как отшельник. «Верная обету монахини, она общалась исключительно в церковных кругах», – уточняет о. Арсений. «В дни Второй мировой войны Анна и Вера жили замкнуто и бедно среди реликвий своего прошлого. Они никому не доверяли, были очень осторожны в знакомствах»207.
Видимо, для этого было достаточно оснований.
Духовная жизнь. Схиигумен ИоаннТем не менее, возвращение в Финляндию способствовало восстановлению прежнего течения духовной жизни, которое было нарушено войной. Правда, старого Валаама больше не было. Остатки братии были поселены на новом месте, в усадьбе на южном берегу живописного озера Юоярви рядом с деревней Папинниеми округа Хейнявеси. Это место получило название Новый Валаам. Старец Ефрем продолжал окормлять монахиню Марию вплоть до 1947 года, когда 13/26 марта иеросхимонах Ефрем мирно отошёл ко Господу.
После кончины духовного отца связь с древней монашеской обителью не прервалась. По свидетельству архимандрита Пантелеимона, настоятеля Ново-Валаамского монастыря, в этот период времени монахиню Марию на квартире в Хельсинки навещал другой валаамский старец – схиигумен Иоанн (в миру Иван Алексеевич Алексеев, 14/27.02.1873–†24.05/6.06.1958)208.
Такие визиты не были редкостью и случались всякий раз, когда отец Иоанн приезжал в Хельсинки погостить у своих духовных чад. Для монахини Марии отец Иоанн занял место усопшего отца Ефрема.
Но схиигумен Иоанн был не единственным наставником. Как рассказывает иеромонах Арсений, в тот период большую роль в духовной жизни монахини Марии играл православный священник отец Михаил Казанко, который стал её духовником. Они были знакомы ещё по Выборгу, когда монахиня Мария была прихожанкой Преображенского кафедрального собора, где отец Михаил служил настоятелем. По крайней мере, в книге Власова он упоминается именно как «молодой настоятель». «В сером подряснике, с украинским говорком, он был более похож на пчеловода…»209
Позднее о. Михаил уехал в Хельсинки. В книге Власова утверждается, что монахиня Мария почему-то не любила его. Быть может, Власов не совсем точен: в нелюбви к православному духовенству трудно упрекнуть монахиню Марию. А может быть, это неудовольствие было вызвано расхождением в чисто духовных вопросах. Во всяком случае, в «Трудах Тобольской Духовной Семинарии» есть указания на то, что священник Михаил Казанко в своём духовном мировоззрении был не чужд идей Владимира Соловьёва и их преломлений в философии Н. А. Бердяева, что могло найти отражение в особенностях священнической практики210.
На то, что определённые трудности во взаимоотношениях вполне могли возникнуть, указывает письмо к монахине Марии схиигумена Иоанна, где по поводу её исповеди у другого священника, о. Владимира, о. Иоанн пишет: «Исповедью отца Владимира получила смущение, что делать, потерпи, не унывай. Белое духовенство всегда как-то от монашествующих требует строгих подвигов…» (полный текст письма приведён ниже).
Православный приход объединил многих русских людей, оказавшихся, как и Анна Танеева, оторванными от своей Родины и стремившихся к более глубокому изучению вопросов духовной жизни. Архимандрит Пантелеимон пишет, что жизнь прихода, состоявшего в основном из русских эмигрантов, была, конечно же, богата событиями. Он упоминает о Русском студенческом кружке, который был организован по благословению валаамского старца схиигумена Иоанна его духовной дочерью Еленой Акселевной Армфельт. Эту женщину связывала с о. Иоанном крепкая дружба. «Кружок поддерживай, – писал он ей, – хоть и мало соберутся. Почитайте и поговорите. Конечно, о духовном будут слушать только расположенные к духовной жизни. Вообще духовное с трудом стяжается»211.
По-видимому, именно об этом объединении упоминает о. Арсений, когда пишет, что «Анна была не одинока в своих духовных исканиях. Многие, кто жили в Хельсинки и находились под опекой отца Иоанна, размышляли над этими вопросами. Они собирались на встречах, руководимых епископом Александром212, и обсуждали духовные проблемы. Часто эти встречи проходили на квартире Анны, потому что ей из-за её инвалидности было трудно выходить из дома»213.
О том же свидетельствует и Л. В. Власов, работавший в финских архивах и исследовавший среди прочего переписку Г. Маннергейма с Анной Танеевой: «Раз в неделю в квартире Танеевой проходили молитвенные собрания»214.
У Анны Танеевой и Елены Армфельт было много общего в жизни. Обе они имели аристократическое происхождение, получили прекрасное воспитание. Елена Армфельт происходила из знатного рода финских шведов. Потомки одной из ветвей, к которому принадлежала Елена Акселевна, служили в русской армии и со времён Екатерины II занимали высокие посты. Её дед был адмиралом, а отец – капитаном первого ранга. Сама Елена Акселевна получила воспитание в Смольном институте, где она видела Императора Николая II. Ей «особенно запомнились прекрасные глаза и доброе лицо Государя»215.
Обеим женщинам, несмотря на разницу в возрасте, было что вспомнить. Столь дорогие воспоминания, казалось бы, не могли их не сблизить. Но, очевидно, всё было не так просто. И здесь сказывались старые предубеждения против Анны Вырубовой со стороны представителей «высшего света».
На это указывает то, что в подробном рассказе архимандрита Пантелеимона о жизни Елены Акселевны Армфельт, о её окружении и дружбе с о. Иоанном совершенно не отведено места Анне Танеевой. Насколько непросто подчас складывались отношения среди членов кружка, свидетельствуют письма о. Иоанна к своим духовным чадам, где он нелицеприятно отчитывает за грех осуждения и раздражения.
«У тебя натяжка с Н.Н. Это очень нехорошо и вдобавок тяжело сердцу. Постарайся как-нибудь смягчиться, но [если] наших сил не хватает, чтобы умиротвориться, – проси помощи у Бога и Царицы Небесной! И за неё молись, и сама ломай себя. Внимательно исследуй себя, и я думаю, что ты тоже не права». И далее: «Если ты читала и знаешь о Святых местах Иерусалима, то не надо и ходить слушать рассказы Н.Н. о своём путешествии. Это очень худое твоё мнение, что не хочешь слушать из её уст о таких святых местах. Покайся. Бог простит тебя, только больше так не выражайся, старайся исправляться, очищать свой грязный сердечный источник, чтобы больше не выбрасывать подобных худых слов»216.
Известно, что схиигумен Иоанн вёл обширную переписку, часть из которой была опубликована. Письма к нему шли со всех концов света: из Англии, Франции, Германии, Америки. За духовным советом к нему обращались и миряне, и монахи, среди которых были насельницы Пюхтицкого и Линтульского женских монастырей. Просила наставлений старца и монахиня Мария.
Впервые некоторые из его писем к ней вошли в сборник «Письма Валаамского старца схиигумена Иоанна», составленный архимандритом Пантелеимоном (Православная Церковь Финляндии). Книга неоднократно издавалась в России. Особенность сборника состоит в том, что в нём не указаны адресаты. Составители не пожелали указать, кому адресованы послания старца – возможно, потому что его поучения имеют более широкое значение и выходят за рамки узкого наставления. Возможна и другая причина – нежелание привлекать внимание читателя к имени Анны Вырубовой из-за слишком больших предубеждений, с ней связанных. Об этом можно судить даже по той небрежности, с которой архимандрит Пантелеимон, автор книги «Отец Иоанн», упоминает об Анне Александровне, называя её «эта дама»217.
Тем не менее, несколько писем старца к монахине Марии удалось идентифицировать при подготовке к изданию «Валаамского патерика», где эти письма были опубликованы. Ещё более полная подборка писем старца Иоанна к монахине Марии представлена в книге «Валаамский старец схиигумен Иоанн (Алексеев). Письма о духовной жизни», изданной в 2007 году Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой и Спасо-Преображенским Валаамским монастырем. Возможно, выявлены и опубликованы не все письма – полный архив писем схиигумена Иоанна находится в Финляндии.
Но сам отец Иоанн, конечно, не делал никаких различий между духовными чадами и ко всем относился с любовью. Для монахини Марии он был старцем, чьи советы определяли направление её духовной жизни, помогали преодолевать искушения, укрепляли на иноческом пути. Она познакомилась с ним на Валааме, и он имел с ней долгую беседу в гостинице, где она проживала, пропустив при этом даже вечернюю службу в силу крайней важности темы беседы – о внутреннем монашеском делании. Переписка с о. Иоанном завязалась ещё при жизни её первого духовника, старца иеросхимонаха Ефрема. Вот, по-видимому, одно из первых писем:
+
14.09.1943
Боголюбивейшая м. Мария!
Христос посреди нас!
Письмо и фотографию я получил своевременно. На Вашу просьбу приехать к Вам – едва ли соберусь, теперь у нас очень много работ хозяйственных. Я тоже хожу на работы, когда не служу.
Пользы мало, если только будем читать да спрашивать, как спастись. Надо начать трудиться, работать, очищать своё сердце от страстей. Вы теперь знаете, в чем заключается духовная жизнь, добрый час, начинайте, умудри Вас Господи, и меня не забывайте в своих святых молитвах. У святого отца Исаака, да, язык труден, но ещё труднее для нас его содержание, ибо глубок колодец, а у нас коротка верёвочка, и мы не можем достать его глубокой, чудной спасительной воды. Епископ Феофан даже составил молитву святому Исааку, чтобы он помог нам понимать его спасительное учение. Вообще святые отцы со своего опыта, от чувств писали, и понимается их учение теми людьми, которые работают над своим сердцем.
Испрашивая на Вас Божие благословение, с любовью во Христе, схиигумен Иоанн218.
Чтобы представить, насколько глубоко и серьёзно подходил старец к вопросам духовной жизни, насколько поучительны были его наставления, каково было направление его мыслей, приведём выдержки из его письма к одной монахине:
«Боголюбивейшая инокиня, – так начинает отец Иоанн своё письмо, и после многосодержательного и возвышенного разговора о духовной жизни поясняет. — … Духовная жизнь подобна дереву, телесный подвиг – листья его, а душевное делание – плод. В духовной жизни главный подвиг – молитва; молитва требует внимания и трезвения. Я полагаю, что ты читала о молитве, однако я скажу тебе, конечно, кратко: о молитве трудно писать подробно.
Молитва имеет три степени: 1-я устная, 2-я умная, 3-я умосердечная. 1-я, устная, произносится устами, а ум гуляет; 2-я, умная молитва: ум надо заключить в слова молитвы. На сердце нажимать вниманием не надо; если будет внимание в груди, тогда и сердце будет сочувствовать. З-я, умосердечная молитва, – достояние очень редких и даётся за глубочайшее смирение. Страстный не должен дерзать к такой молитве, говорит святой Григорий Синаит. К умилению и слезам не надо стремиться, а когда это само по себе придёт, умиление и теплота сердечная, остановись на этом, пока это пройдёт. Все же думать не надо, что что-то великое получила. Это бывает естественно от сосредоточения, но не прелесть. Вот что ещё сообщу на всякий случай: если теплота пойдёт далее по всему телу – такая теплота не кровная, а духовная, – то слезы польются просто струёй и люди будут казаться просто ангелами, в такой момент на ногах уже не устоишь, надо ложиться или садиться; если это случится в церкви, надо скорее выходить вон; другие, не знавшие и не испытавшие подобных явлений при молитве, сочтут за прелесть. Это не прелесть, а небесный гость.