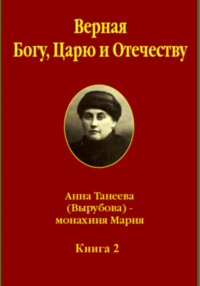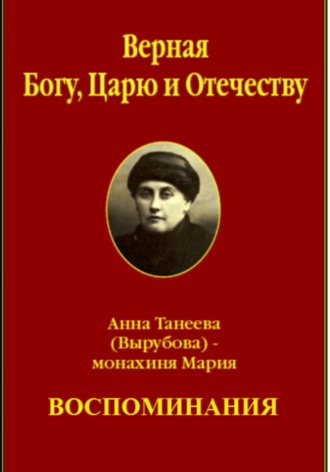
Полная версия
Верная Богу, Царю и Отечеству
Известие об отречении Государя привез также Великий князь Павел Александрович. При этом он приехал во Дворец не только для того, чтобы известить Императрицу о случившемся, но и чтобы поддержать её в столь тяжкий момент. Он делал это по личной инициативе, как преданный друг. В сложившихся обстоятельствах любая лояльность по отношению к Царице ставила под угрозу не только благополучие его семьи, но и саму его жизнь. В устах Императрицы эпитет «преданный» говорит о многом. Достаточно сказать, что поведение Великого князя Павла Александровича резко отличалось от действий Великих князей Кирилла Владимировича, Николая и Александра Михайловичей.
Глава 15. «Сила Божия в немощи совершается». Революция. Изгнание
За грозными предзнаменованиями последовали грозовые события. Разразилась буря революции, ознаменованная свержением Богоизбранного, законного Царя: всё более и более усиливающийся хаос и анархия власти, окончательное разрушение военной дисциплины, пьянство черни, беззакония, убийства, грабежи… Творятся нелепые, невообразимые вещи: арестовывают всех, правых и неправых, не щадя ни старых, ни больных. Подвергают преследованию честных, благородных русских людей, достойно исполнявших свой долг перед Царем и Отечеством, убивают, и не только городовых. Затем следует арест Царской Семьи, бесцеремонно и оскорбительно обходятся с Их Величествами по распоряжению какого-то жида Керенского, в руках которого почему-то оказалась власть. Тогда как те, кто по долгу своего положения, по долгу дворянской и офицерской чести должен был бы эту власть удержать, чтобы вернуть ее Законному Государю, кто должен был ценою жизни защитить исконно русскую власть Самодержца Российского, те – бездействуют, преступно потакая революции. Забвение долга, присяги, идеалов, подчинение жидовской воле ничтожного Керенского, унижение Царя и Царицы – полное, невообразимое безумие и позор…
Беда не приходит одна. Известие об отречении Государя достигает Царского Села в тот момент, когда все Великие княжны, Наследник и Анна Александровна больны корью. Состояние Великой княжны Марии Николаевны критическое. Дворец покидают войска под предводительством Великого князя Кирилла. Разбегаются слуги. Государыня остается в опустевшем Дворце одна – с больными детьми, в окружении распоясавшейся солдатни… Обо всем этом рассказывает Анна Александровна, изображая картину настолько же трагичную, насколько и величественную, в которой со всей полнотой и силой раскрывается величие души и невероятная сила духа последних Русских Царя, Царицы и их Детей. Перед их мужеством, твердостью, самообладанием, смирением и глубочайшей верой в Промысл Божий, перед их удивительной всеохватывающей любовью невозможно не опуститься на колени. Даже сердцу черствому и порочному нельзя остаться равнодушным и безучастным к духовному подвигу этих людей, непостижимая и недостижимая высота которого остается для каждого русского человека неподражаемым образцом.
По распоряжению Керенского больную Анну Александровну разлучают с Их Величествами. Для нее начинается новый период жизни – период обездоленного существования всеми отверженной, больной и гонимой женщины. Предоставим читателю самому пройти вслед за пером Анны Александровны по казематам Петропавловской крепости, Выборгской тюрьмы, Свеаборгской крепости, пережить вместе с ней бесконечные мытарства в холодном и голодном, ставшем враждебным ей Петрограде. И повсюду снова и снова – добро и зло, страдание и надежда и, как яркие вспышки света во тьме ночи, – неожиданные проявления подлинного человеческого сострадания и любви. И везде незримо – Господь.
Письмо из Свеаборгской крепостиВ архивных документах Анны Вырубовой есть письмо, посланное ею из застенок Свеаборгской крепости-тюрьмы – ещё одно письменное свидетельство тех дней, выразительный словесный портрет человеческой души, исполненной глубокими переживаниями обо всём произошедшем, но не потерявшей надежду, согреваемой верою и любовью. Письмо написано за месяц до большевистского переворота.
«Свеаборгская крепость
23 сентября 1917
Феодосья Степановна, милая, дорогая, родная, если бы Вы знали, как мне жаль Вас, плакала, читая Ваше письмо, какое страшное горе Вы переживаете, и как мне тяжело быть вдали от Вас, но ведь Вы знаете, дорогая, и чувствуете, что я Ваша Мама [здесь и далее выделено А. А.] теперь, как хотела бы Вас повидать – если бы Вы могли устроить хоть на один день приехать сюда, ведь Бог знает, иначе когда мы увидимся!! Боже, что я переживаю и пережила, я тоже часто думаю, за что Богу угодно было так снова испытывать меня после всех уже перенесенных страданий! Все надеюсь, что вырвусь отсюда, что Бог сотворит чудо и меня еще раз спасет, но только чудо может спасти, ибо я в руках черни – то, чего боялась, и Вы сами знаете, что эта толпа матросов не рассуждает, они как дикие звери; видно, что Вы все молитесь. Дорогая, простите, что пишу о себе, но Вы мой друг и поймете.
Боже, помоги нам всем!! Ваша дорогая Мама перешла в лучший мир, я знаю, что она любила меня, и видно, что молится и за Вас, и за меня, а Вы ведь знаете, что у меня Вы дома, где бы я ни была, только и дома у меня нет теперь… пока томлюсь опять в тюрьме!!..
Дорогая, конечно, поезжайте к сестре, конечно Вы должны ее спасти, только должны и о себе подумать, о своем здоровье. Господи, если бы мы могли вместе уехать куда-нибудь отдохнуть… Помните, как мы с Вами мечтали! – а как вышло иначе, – у Вас такое горе, а я в тюрьме.
Теперь, говорят, будет забастовка, так что, пожалуй, Вам не удастся сразу уехать, а сюда постарайтесь устроиться на денек. Николай Ив. или Порохов знают, или [неразборчиво] скоро [неразборчиво] карточки фотографию Вашу можно вырезать из группы в лазарете. Конечно, если Вы хотите меня повидать! Я знаю, что мой дорогой доктор старается за меня, чтобы меня вывести. Молюсь, верю и надеюсь.
Крепко от всего сердца целую, обнимаю и благословляю Вас, всегда, всегда Ваш верный друг А.
Всех в лазарете обнимаю, С.П. [Сергея Петровича] особенно и всем шлю приветы.
Помоги и [неразборчиво] Вас Господь Милосердный.
С. Вислова такая утомительная !!…
Наверное, у Вас совсем нет денег. Пишу Порохову, чтобы он выдал Вам 400 рубл. Еще и еще раз обнимаю и плачу с Вами.
Были 2 письма от Вел. Кн. на Ваше имя, прочитала их, не могла сохранить… Не получили ли еще, если да, то пришлите прочесть, напишите им и поблагодарите, скажите [неразборчиво]»155.
Свидетельство корнета С. В. МарковаК этому периоду жизни Анны Александровны Танеевой (Вырубовой) относится еще одно важное и очень яркое свидетельство о ее жертвенном служении Царственным Узникам. Это свидетельство представлено Сергеем Владимировичем Марковым в его книге «Покинутая Царская семья», недавно переизданной в России. Сергей Владимирович Марков – русский офицер, Георгиевский кавалер, корнет Ее Величества Крымского Уланского полка, Августейшим Шефом которого являлась Государыня Императрица Александра Феодоровна. Он не просто разделял монархические убеждения, но готов был жизнь свою положить за Государя и Государыню. Когда Государыня с больными детьми оказалась изолированной в Царском Селе, когда большинство приближенных и слуг покинули ее, корнет Марков по велению своего горячего сердца явился во Дворец, желая хоть чем-то быть полезным своей Государыне, а если придется, то и жизнь свою отдать за нее. По личной инициативе он устремляется в Тобольск с тем, чтобы принять участие в освобождении плененной Царской Семьи.
Особое место в книге Сергея Владимировича Маркова уделено Анне Александровне Вырубовой, о которой он пишет с теплотой и благодарностью. Его воспоминания раскрывают перед нами еще одну удивительную страницу ее жизни, связанную с теми усилиями, которые были предприняты ею для поддержания связи с Царственными узниками в Сибири, для пересылки им вещей, денег, писем. Но прежде чем предоставить слово корнету Маркову, приведем строчки из собственных воспоминаний Анны Александровны, в которых она коротко и скупо рассказывает о связи с Тобольском, при этом совершенно не раскрывая своего личного участия в организации этого дела. «Единственными светлыми минутами последующих дней была довольно правильная переписка, которая установилась с моими возлюбленными друзьями в Сибири. И теперь, даже вдалеке от России не могу назвать имена тех храбрых и преданных людей, которые проносили письма в Тобольск и отправляли их на почту, или привозили в Петроград и обратно. Двое из них были из прислуги Их Величеств. Они рисковали жизнью и свободой, чтобы доставить Помазанникам Божьим радость переписки со своими друзьями. Их Величествам разрешали писать, но каждое слово прочитывалось комиссаром, подвергаясь строгой цензуре. Но и те письма, которые тайно доставлялись из Тобольска, читались; увидим, с какой осторожностью они написаны»156.
А теперь слово Сергею Маркову:
«Среди лиц, близких к Царской Семье и пользовавшихся ее исключительным благорасположением, одно из первых мест должно быть отведено А. А. Танеевой (Вырубовой). <…>
От Ю. А. Ден я узнал, что А. А. Вырубова была выпущена из арестного дома и сейчас живет, медленно оправляясь от всего пережитого в доме своего шурина Пистолькорс, на Морской…
В десятых числах августа я, совместно с Ю. А. Ден, посетил А. А. Вырубову, будучи приглашен к ужину её шурином. В гостиной я застал целое общество, в большинстве мужчин, среди которых преобладал военный элемент.
В числе присутствующих находился и пресловутый Манташев, нефтяник и лошадник, известный всему Петербургу благодаря своим близким отношениям к жене генерала Сухомлинова. Он этих отношений не скрывал, а, наоборот, как будто даже гордился ими. Он был в военной форме, с погонами Красного Креста и с Владимиром 4-й степени с мечами, уж право не знаю, за какие доблести им полученным.
Среди офицеров я заметил капитана 1-го ранга Мясоедова-Иванова, моего знакомого по Царскому Селу.
Все общество находилось в самом веселом, благодушном настроении.
Повсюду слышалась английская и французская речь, словом, обычный петербургский вечер, совсем не напоминавший и не гармонировавший с переживаемыми событиями. А. Вырубовой в гостиной не было, она вышла только к ужину. Как мало подходила к этой веселой, шумной компании эта женщина-мученица, на костылях, в скромном черном платье, с мертвенно-бледным лицом и глубоким шрамом на лбу, следом удара прикладом, полученного ею в тюрьме…
Её большие васильковые глаза, ясные и выразительные, скорбно смотрели на собравшихся вокруг большого стола, заставленного изысканными закусками и батареей водок и вин как отечественного, так и заграничного производства.
Разговоры за столом носили самый фривольный характер, кто-то заговорил о политике, но его попросили перестать и не портить настроения собравшихся. О несчастных Царственных Узниках никто даже и не вспоминал!».
«В начале 1923-го года я, к своей большой радости и счастью, узнал, что ей удалось благополучно покинуть пределы советского «рая» и что она со своей матерью проживает за границей.
Я немедленно списался с ней и был несказанно обрадован получением от неё следующего письма:
«17-го января 1923 г.
Милый маленький Марков,
как я была рада узнать, что Вы живы и здоровы!.. ведь я с тех пор ничего о Вас не знаю!.. Теперь скоро два года, что мама и я выехали из России и жили… у сестры.
Сколько перенесено с тех пор, что я Вас не видела!..
А Вы как поживаете, где Вы все это время были, когда уехали и каким путем? Буду рада узнать все подробности о Вашей жизни!..
Мы бежали через лед два года тому назад! Я даже босиком, так как ничего не было; финн, который нас вез, сжалился и отдал мне свои носки!..
За эти два года я очень поправилась, но еще порядочно нервная. Буду ждать с нетерпением Вашего письма! Пишите через…
Мы с мамой сейчас в… Хочу Вам послать фотографии, которые Вам будут дороги, когда получу от Вас ответ. Читали ли Вы мои воспоминания, которые вышли в Париже? Если нет, то пришлю. Храни Вас Господь, милый «маленький Марков»! Слава Богу, что Вы живы!..
Сердечный привет и пожелания всего светлого в наступающем году!
Танеева».
Вскоре я получил и книгу с авторской надписью: «На добрую память маленькому Маркову от автора».
Чтение этой замечательной книги, этих исключительных по своему содержанию воспоминаний, в которых Анна Александровна раскрывает перед читателем свою исстрадавшуюся душу, вводя его в мало знакомый круг интимной жизни Царя-Мученика и его Семьи, всколыхнуло во мне воспоминания о тихих, спокойных днях жизни в Ливадии, и я снова пережил в малейших деталях все, что казалось уже погребенным в тайниках моего сердца!
Жгучей, нестерпимой болью отозвались в душе воспоминания о кошмарных 1917–1918 годах, годах безмерных страданий Святой Семьи Царственных Мучеников в далекой снежной Сибири!..
И мы, русские люди, вольно или невольно оставившие на произвол судьбы Семью наших Венценосцев, должны преклониться перед образом этой больной физически женщины, подвергшейся истязаниям и надругательствам, но ни на одну минуту не забывшей Семьи своих Царственных Друзей, для Которой она отдала свои последние силы, не словом, а делом помогая им в изгнании.
И что всего удивительнее, несмотря на весь ужас перенесенных издевательств и страданий, эта глубоко религиозная женщина полна всепрощения к своим врагам.
Она безропотно шла и идет по своему крестному пути.
«Укоряемы – благословляйте, гонимы – терпите, хулимы – утешайтесь, злословимы – радуйтесь… – вот наш путь с Тобою!» – пишет ей из Тобольска её Царственный Друг, Государыня.
Твёрдо помнит глубоко несчастная женщина завет, пришедший к ней из далекой Сибири и, кончая свои записки, говорит: «Господь мне помощник, и не убоюся, что мне сотворит человек!».
За 12 лет близости своей к Императорскому Дому, отдав все свои силы, все свое разумение ее превыше всего на свете любимой Государыне, подвергаясь за эти долгие годы неслыханной клевете, обвиненная в чудовищных преступлениях, истерзанная физически и душевно своими палачами-тюремщиками, она и теперь не оставлена в покое людской подлостью и завистью! С крестом в сердце и молитвой на устах, голодная, в нищенских лохмотьях, босая в зимнюю стужу, она и вдали от несчастной, поруганной Родины не нашла желанного покоя!
Ославленная в свое время как «наложница Распутина», «германская шпионка», «отравительница Наследника» и «всесильная временщица, правившая Россией», она отдала последнее, что у нее было, в дни заключения своих Друзей и сделала для Них больше, чем кто-либо.
Сколько грязи и низкой клеветы было брошено в нее за это нашими «спасателями» в лице Маркова 2-го и его бывшего сотрудника В. П. Соколова, обвинившими ее в том, что она им мешала в их плодотворной работе на пользу Их Величеств в Сибири и что если бы не она, то, быть может, все было иначе!..
Прочтя эти заведомо ложные показания, кои дали судебному следователю Соколову эти пресловутые «спасатели», Анна Александровна, вероятно, подумала: «Прости им, Господи, они не ведают, что творят!».
Нет! Они ведают, но боятся сознаться, что не по плечу было им дело спасения Царской Семьи! Все их попытки кончились тем, чем они начались, т.е. праздными разговорами… Кто им, осмелившимся взять в свои руки великое дело спасения Царской Семьи, может поверить, что им не удалось ее спасти, так как у них не было денег?..
В стране с 150-миллионным населением они не могли найти средств для спасения своего Царя!..
16/29 мая 1921-го года на монархическом съезде в Рейхенгалле не кто иной как Марков 2-й сказал: «Нашелся русский человек не только хороших слов, но и хорошего дела, он пришел и сказал – я достал необходимые деньги, соберите съезд монархистов! – и мы приступили к делу!».
Итак, Марков 2-й нашел в 1920 году деньги для съезда монархистов, а в 1917-1918 годах денег для спасения Царской Семьи он найти не мог!
Не нашёл он в необъятной Родине нашей человека, который пришел бы к нему и сказал: «Я достал необходимые деньги! Спасите Царя и его Семью!».
В одном из писем ко мне Анна Александровна между прочим пишет: «Маркова 2-го видела всего один раз в жизни. Никаких «организаций» я не имела и потому логично не могла о них говорить с ним… Я посылала и собирала, что могла, для своих Друзей и посылала с теми, кто рисковал всем, лишь бы доставить Им радость!..».
Эти «многоглаголивые спасатели» с их замечательными организациями не могли сделать того, что удалось сделать полузамученной женщине, которая сразу же после освобождения из Свеаборгской крепости в конце сентября 1917 года немедленно же стала устанавливать связь с Их Величествами.
Это ей вполне и удалось, и с ноября месяца того же года вплоть до увоза Их Величеств из Тобольска связь эта не прерывалась.
При деятельной поддержке жены бывшего Военного министра Екатерины Викторовны Сухомлиновой Анна Александровна изыскала возможность к отправлению в Тобольск вещей и денег, столь необходимых Их Величествам. Вещи и деньги были переданы в различные сроки Б. Н. Соловьевым, мною лично и другими лицами.
Все вещи и деньги достигли места своего назначения, что подтверждается многочисленными письмами к Анне Александровне как Государыни, так и Великих княжон. На Соловьева Анна Александровна возложила организацию отправок и создание на месте возможности безконтрольного общения с узниками.
Как видно из моих воспоминаний, обе эти цели были Соловьевым достигнуты».
«Деятельной помощницей Вырубовой в деле облегчения участи Царской Семьи была ныне покойная жена генерала Сухомлинова Екатерина Викторовна, проявившая к Их Величествам много трогательной внимательности. Ее можно поставить в пример многим и очень многим нашим придворным дамам, хотя она не только не была таковой, но, напротив, до начала войны не была принята при Дворе ни разу, а потом всего несколько раз, и никогда не пользовалась благоволением и милостями Их Величеств, скорее даже отрицательно относившихся к ней. Но несмотря на все это, она не забыла Императорской Семьи в тяжелые для них дни и, как я уже писал, помогала ей по мере сил и возможности».
«Принимаемый как родной и близкий, я часто бывал у А.А. Вырубовой в ее маленькой квартирке на 6-м этаже на Фурштатской улице. За неделю до моего приезда в Петербург она потеряла своего отца, скончавшегося 25 января. Это новое горе, свалившееся на нее после всего ею пережитого и перенесенного, окончательно убило ее. Я только мог преклониться перед ней, с таким христианским смирением и так безропотно несшей тяжкий крест, возложенный на неё Господом Богом, и в своём горе ни на минуту не забывавшей о тобольских Узниках, помогавшей Им последними деньгами и вещами и своими письмами ободряя их в их одиночестве» [выделено составителем]157.
Свидетельство «Мэри Хэппи»Известная писательница Русского зарубежья Алла Кторова (Виктория Кочурова), утверждает, что одна её знакомая, которую звали Мэрри Хэппи, являлась дочерью Юлии Александровны фон Ден – близкой подруги и Государыни Александры Феодоровны, и Анны Вырубовой. Если это действительно так, то выводы Сергея Владимировича Маркова можно дополнить мнением человека, не связанного непосредственно с описываемыми событиями, более того живущего в другую историческую эпоху, но тем не менее, имеющего полное право на выводы, так как передаёт их со слов своей матери – непосредственной свидетельницы тех событий. Однако, многие подвергают сомнению происхождение Мэрри Хэппи, как и факт её существования, относя всё к богатому писательскому воображению Аллы Кторовой. Как бы то ни было, но та характеристика Анны Александровны, которая приведена в книге Аллы Кторовой «Перо Жар-птицы. Пращуры и правнуки» от лица Мэрри Хэппи, безусловно, заслуживают внимания, поскольку являются выражением подлинной правды:
«Если судить по совести, то необходимо признать, что российская история должна, прежде всего, отдать долг Анне Вырубовой, которая простодушно, по-институтски открыто и наивно бросалась то к одному, то к другому, ко всем, кто, по ее мнению, мог бы помочь в освобождении семьи русского Императора. Она лихорадочно собирала деньги (и очень много собрала), несмотря на смертельную опасность. После ареста в Царском Селе ее сначала увезли в тюремный замок, откуда она смотрела с ужасом на озверевших «рабочих и крестьян», ревущих: «Распни их!» и яростно размахивающих при этом красными тряпками с призывами: «Николая II Кровавого, предательницу немку-царицу с отродьями – к ответу!». После тюремного замка Анна Вырубова попала в Центробалт к организаторам этого гнусного представления, к матросам, к «красе и гордости русской революции», как называл их Ленин. Она сидела в завшивленном, заплёванном окурками трюме, ждала расправы, но в этих страшных, немыслимых обстоятельствах она смогла, – а как – невозможно себе представить! – наладить переписку с Императрицей!»158.
Судьба оказалась милостива к Анне Александровне в той степени, в какой это можно отнести к человеку, лишённому Родины, потерявшему своих друзей, перенёсшему столько нвзгод, невероятных страданий и испытаний в тюремных застенках. Тем не менее чудесное избавление от расстрела и, наконец, удачное бегство вместе с матерью в Финляндию по льду Финского залива, участие добрых людей, обретение нового своего земного убежища – тихого уединённого пристанища в стране голубых озер, – такой невероятный и благоприятный исход в, казалось бы, безнадёжной ситуации не мог произойти по воле случая. Несомненно, что Святые Царственные Мученики не забыли свою верную Аню. Их молитва оберегла Анну Александровну, дала возможность окончить свои дни относительно спокойно и исполнить сокровенное желание – послужить Богу в ангельском, монашеском чине.
Исполнила Анна Александровна и ещё одно замечательное дело, на которое, несомненно, благословил её Господь. Ею была написана удивительная книга воспоминаний, на страницах которой предстала перед читателем правда о святых Царственных Мучениках и обо всём том, что произошло с Россией, русским народом и с нею самой в тяжелейший период крушения Русского Самодержавного Царства. Кто знает, быть может, то благословение, которое будущий священномученик протоиерей Иоанн Восторгов дал Анне Александровне, касалось именно написания воспоминаний о наших замечательных, оклеветанных и гонимых Самодержцах. Перед Анной Вырубовой ставилась задача сказать правду о Них, в ответ на злобную клевету, раздававшуюся повсюду, чтобы правда сохранилась для потомков. Вспомним его письмо к Анне Александровне от 30 июня 1914 года: «Храни Вас Бог на то дело, о котором я писал Вам, и да подаст Он Вам и терпение, и смирение, и благодушие, и ту настроенность, без которой нельзя довести добра до конца».
Глава 16. Монахиня Мария. Финский период.

Териоки
Воспоминания Анны Александровны Танеевой (Вырубовой) «Страницы моей жизни» завершаются декабрем 1920 года, когда вместе с матерью они по льду пересекли границу возникшего на обломках Российской Империи государственного образования – суверенной Финской республики, которая уже не принадлежала революционной России. Оказавшись таким образом на территории сопредельного государства, они, мать и дочь Танеевы, некоторое время проживали на своей даче в Териоках, но вскоре переехали в Выборг.
Что побудило Анну вместе с Надеждой Илларионовной покинуть Териоки, которые они очень любили, неизвестно. Нестабильность политической обстановки и близость советской границы, вызывавшие опасения, имели, скорее, второстепенное значение. Основная причина всё же, на наш взгляд, заключалась в другом. Причина была в той атмосфере, которая царила в Териоках и которая не могла не тяготить Анну Александровну. В то время там можно было встретить много высокопоставленных особ, укрывшихся от революции и проживавших на своих дачах.
Вот как описывает Териоки того периода композитор Пётр Федорович Миролюбов в своих воспоминаниях:
«Парки, сады с дачами охватывали в Териоках целые кварталы, всех дач, конечно, не перечислишь. Многие из них были весьма комфортабельными, такие как дача Мюзер, дача Ландезен, дача Хейкель – все они располагались в сторону залива и некоторые из них, имея парки, пересекали своими участками даже Куоккальское шоссе. Интересно отметить, что очень часто дачи носили название, соответствующее имени жены владельца: “Анино” – дача К. С. Богданова, жену звали Анной Константиновной, “Танино” – дача полковника П. П. Александрова, жена его – Татьяна Домиановна. Особенно роскошными считались дачи-дворцы Захарова, Иванова, Шитова, Седеркреуц, графа Ностиц, графа Шереметьева. Было здесь и ателье художника Леви, дача Дальберга с артезианским колодцем, из которого била вода со страшной силой и зимой и летом. Роскошные дачи имели князь А. Оболенский, князь Демидов-Сан-Донато. Невозможно всех перечислить, это далее скуку нагоняет, можно сказать, устанешь и читать! Одним словом, богатые имели дачи и состояние и таковое проживали и беднели, а рабочий человек своим трудом наживал деньжонки и покупал у богатых за бесценок маленькие дачки, ремонтировал их и жил в них. <…>