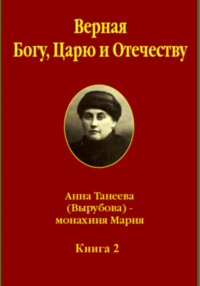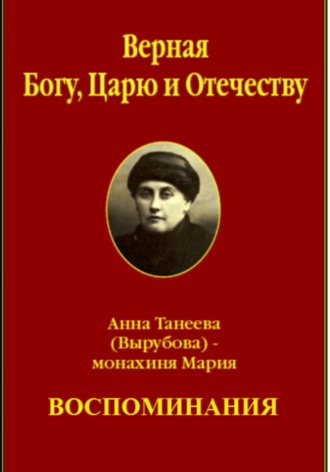
Полная версия
Верная Богу, Царю и Отечеству
По свидетельству А. И. Спиридовича, планы убийства Николая II вынашивал А. И. Гучков. Это неудивительно, если знать цель его революционной деятельности, которая заключалась в разрушении самодержавия, а также то, что Русского Императора он считал своим личным врагом. Вызывает удивление другое. С Гучковым поддерживал связь Великий князь Николай Николаевич, а также его ставленник на посту военного министра генерал Поливанов. Вызывает недоумение, почему Великие князья не смогли найти общий язык со своим Императором. Неужели дело только в Распутине и в Вырубовой? Или сибирский странник вместе с бедной Анной Александровной являлись лишь щитом, прикрывающим подлинные причины тех разногласий, которые привели Великих князей к фактической измене своему Царю. Попробуем выяснить, по крайней мере, насколько велика была рознь между Царской Семьей и их родственниками, насколько далеко простирались планы Великих князей и какими последствиями грозили они Русскому Престолу и преданным Царским слугам.
В интервью, данном Анной Вырубовой американской журналистке Ритте Дорр в 1917 году об этих планах говорится определённо и недвусмысленно: «Против Императора и Императрицы были все Великие князья и вся семья… Не могу передать Вам все, что они говорили и делали, это было бы нарушением конфиденциальности, но они объединились в сильную группировку против бедного Императора, угрожали отречься от него в то жуткое неопределенное время». И далее, рассказывая о том, что после убийства Григория Распутина Юсупов добивался аудиенции у Государыни, Анна Александровна говорит, что «если бы встреча состоялась, он бы убил и ее, а затем, вполне вероятно, и меня. Мы были убеждены, что был построен целый план убийств, но этому нет никаких доказательств». В дальнейшем, встретившись с жестким отношением к себе со стороны русской эмиграции, она вряд ли позволяла себе изъясняться так же открыто. Даже в своих воспоминаниях она старалась излагать прежде всего факты, а выводы предоставила делать самому читателю.
Тем не менее, относительно планов «устранения» Государыни Александры Феодоровны находим подтверждение в книге «Страницы моей жизни»: «Через несколько дней Государь принес в комнату Императрицы перехваченное Министерством Внутренних Дел письмо княгини Юсуповой, адресованное Великой княгине Ксении Александровне. Вкратце содержание письма было следующее: она (Юсупова), как мать, конечно, грустит о положении своего сына, но «Сандро» [Великий князь Александр Михайлович] спас все положение; она только сожалела, что в этот день они не довели своего дела до конца и не убрали всех, кого следует [выделено составителем]. Теперь остается только «ЕЁ» [большими буквами] запереть. По окончании этого дела, вероятно, вышлют Николашу и Стану [Великого князя Николая Николаевича и его жену Великую княгиню Анастасию Николаевну] в Першино в их имение… Как глупо, что выслали бедного Николая Михайловича!». Государь сказал, что все это так низко, что ему противно этим заниматься. Императрица же все поняла. Она сидела бледная, смотря перед собой широко раскрытыми глазами…»139.
Ещё одно свидетельство, что готовилось покушение на жизнь Государыни, находим в недавно опубликованных в России воспоминаниях С. В. Маркова: «Ш. утром узнал от одного своего приятеля, служившего в министерстве Иностранных Дел, лица, заслуживающего полного доверия, что на Государыню Императрицу Александру Феодоровну в конце февраля или начале марта готовится покушение. Лицу, согласившемуся исполнить этот адский замысел, обещалась крупная награда»140.
Из письма Зинаиды Юсуповой ясно, что в организации убийства Г.Е. Распутина-Нового были замешаны помимо Вел. князя Дмитрия Павловича и другие члены Императорского Дома: Великий князь Николай Николаевич, его жена Великая княгиня Анастасия Николаевна, Великий князь Николай Михайлович. Иначе за что же их было высылать «по окончании этого дела», т.е. после расследования убийства Распутина? Несомненно, поддерживал их и Великий князь Александр Михайлович, а также Великая княгиня Мария Павловна (Старшая), со склада которой, кстати, брала шить белье портниха Мария Лаврентьева, которую не без основания подозревала Анна Александровна. Несомненно, живое участие принимал и старший сын Марии Павловны – Великий князь Кирилл Владимирович. Относительно Великой княгини Марии Павловны находим еще одно свидетельство в воспоминаниях А. Танеевой. «Помню, – пишет Анна Александровна, – как раз в Петергофе я застала Государыню в слезах. Оказалось, что приехала Великая княгиня Мария Павловна просить руки Ольги Николаевны для Великого князя Бориса Владимировича. Императрица была в ужасе при одной мысли отдать ему свою дочь. К сожалению, Великая княгиня Мария Павловна не простила Их Величествам их отказ и была в числе тех заговорщиков, которые свергли с престола Их Величества»141.
Об этом же определённо свидетельствует Дворцовый комендант В. Н. Воейков: «Члены Императорской Фамилии утратили всякую меру самообладания; Великая княгиня Мария Павловна Старшая, по доходившим до меня сведениям, не стеснялась при посторонних говорить, что нужно убрать Императрицу; а Великий князь Николай Михайлович, как самый экспансивный из Великих князей, в своих разговорах в клубах и у знакомых настолько критиковал все, исходившее (как он говорил) из Царского Села, что Государю пришлось ему предложить проехаться в его имение Грушевку, Екатеринославской губернии. Совершенно непонятно, – продолжает далее В. Н. Воейков, – почему члены Императорской Фамилии, высокое положение и благосостояние которых исходило исключительно от Императорского Престола, стали в ряды активных борцов против Царского режима, называя его режимом абсолютизма и произвола по отношению к народу, о котором они, однако, отзывались как о некультурном и диком, исключительно требующем твердой власти. В таковом их мышлении логики было мало, но зато ярко выступало недоброжелательство к личности Монарха: даже после отречения Государя от Престола Великий князь Сергей Михайлович, между прочим, пишет своему брату, Великому князю Николаю Михайловичу: «Самая сенсационная новость – это отправление полковника со всею семьею в Сибирь. Считаю, что это очень опасный шаг правительства – теперь проснутся все реакционные силы и сделают из него мученика. На этой почве может произойти много беспорядков». Странно, что в такие трагические минуты Великий князь Сергей Михайлович, родственник Государя, настолько равнодушен к его судьбе, что думает о могущих произойти неприятностях для захвативших власть врагов отрекшегося Царя»142.
В книге Леонида Болотина «Царское дело» рассказана (со ссылкой на воспоминания Родзянко и исследование историка С. Мельгунова, которое называется «На пути к дворцовому перевороту») о том, что в доме Великой княгини Марии Павловны после убийства Григория Распутина постоянно проходили «семейные совещания» по поводу создавшегося положения в связи с проводившимся расследованием убийства. В совещаниях принимали участие Великие князья: Кирилл, Андрей, Борис Владимировичи, Павел Александрович, Александр Михайлович, Гавриил Константинович. 24 декабря был приглашен председатель Думы камергер Двора Родзянко, которому было определенно высказано Марией Павловной в том духе, что Императрица «губит страну, что благодаря ей создается угроза Царю и всей царской фамилии, что такое положение терпеть невозможно, что надо изменить, устранить, уничтожить… Дума должна что-нибудь сделать… Надо ее уничтожить…».
И далее, развивает тему С. Мельгунов: «Совещания в салоне Марии Павловны продолжались. Из других источников я знаю о каком-то таинственном совещании на загородной даче, где определенно шел вопрос о цареубийстве: только ли Императрицы? Но я не нашел подтверждения словам И. П. Демидова в докладе «Мировая война и русская революция» (со ссылкой на Родзянко), что предложение в эти дни захватить Царское Село при содействии гвардейских частей не осуществилось в силу отказа Дмитрия Павловича. Такая версия имеется только в дневнике Палеолога. Вхожий в салон Великой княгини Марии Павловны, осведомленный о многих интимных там разговорах, Палеолог говорит, что Великие князья, среди которых ему называют сыновей Марии Павловны, предполагали при помощи четырех гвардейских полков (Павловского, Преображенского, Измайловского и личного конвоя) ночью захватить Царское Село и принудить Императора отречься. Императрицу предполагалось заточить в монастырь и провозгласить Наследника Царем при регентстве Ник. Ник. Надеялись, что Великий князь Дм. П., после убийства Распутина, сможет стать во главе войск. Великие князья Кирилл и Андрей всемерно старались убедить Дмитрия Павловича довести до конца дело национального спасения. Но Дмитрий Павлович после долгой борьбы со своей совестью отказался поднять руку на Царя»143.
Всё это имеет прямое отношение и к Анне Вырубовой. Вспомним письмо к ней протоиерея Иоанна Восторгова, в котором он предостерегал Анну Александровну, указывая на то, что существует вполне определенный, ему известный план, согласно которому совершено покушение на Г. Е. Распутина, согласно которому и ей грозит прямая опасность. Он не решился в письме указать непосредственный источник угрозы, но дал понять, что все это исходит из высших сфер. Все изложенное выше однозначно определяет тот самый таинственный источник смертельной угрозы для Анны Александровны. Убийцы Распутина: как непосредственные исполнители, так и вдохновители, готовые покончить теми же методами не только с Государыней, но, несомненно, и с Государем, готовы были при первой же возможности разделаться и с Анной Вырубовой.
Роль Великих князей в подготовке революцииЧтобы лучше понять мотивы, которыми руководствовались Великие князья в своей фактической деятельности против Государя, их умонастроения и чувства, приведем в качестве иллюстрации цитату из книги шведского исследователя С. Скотта «Романовы», которая относится к Великому князю Николаю Михайловичу. «Как и некоторые другие Великие князья, он был активным членом масонской ложи, пожалуй, самым активным, и это обстоятельство немаловажно». «Вероятно, Николаю Михайловичу по душе были тайные общества. Он был вторым по счету русским членом закрытого и малоизвестного общества «Биксио», насчитывающего всегда шестнадцать членов; до него в общество входил Тургенев. Среди известных членов «Биксио» были Мопассан, Доде, Флобер и братья Гонкуры. Новые члены избирались лишь в случае чьей-либо смерти». Здесь же С. Скотт поведал, что его братом по ложе являлся Керенский. И далее: «Он иногда называл себя социалистом, был масоном и, с точки зрения Церкви, считался атеистом»144.
Быть может, эта характеристика не относится к его брату Великому князю Александру Михайловичу, но действия последнего по отношению к Царской Чете вполне соответствовали предложенному масонами оскорбительному для Их Величеств тону высокомерия, которое граничило с глумлением над их бедственным положением, и было по существу продолжением развязанной против них травли. Все это привело к тому, что, как пишет Анна Александровна, «Государь не мог выносить Великого князя Александра Михайловича». Так же, добавим, как и Великого князя Николая Михайловича, которого Государь вынужден был выслать за пределы Петербурга в его имение Грушовку за дерзкое, оскорбительное поведение в отношении Государыни.
Что же касается Великого князя Кирилла Владимировича, то его доблестные деяния хорошо известны. Напомним, что в дни, когда Петроград был охвачен революционным волнением, но еще не было получено известие об отречении Государя, Государыне с детьми оставалось уповать только на преданность и доблесть охранявших их войск и прежде всего офицеров – единственного барьера, ограждавшего Ее и Ее больных корью детей от распоясавшейся, мятежной черни. Но произошло следующее, как свидетельствует об этом Анна Александровна Вырубова: «На следующий день полки с музыкой и знаменами ушли в Думу, среди ушедших был Гвардейский экипаж под командованием Великого князя Кирилла Владимировича».
В связи с развернувшимися спорами относительно того, могут ли потомки Великого князя Кирилла Владимировича претендовать на Русский Престол, все же следует уяснить, каковы были истинные мотивы поведения Великого князя в разгар февральской революции. В частности, как аргумент рассматривают вопрос о том, был или не был красный бант в петлице Кирилла Владимировича в момент его явления в Думу. На наш взгляд, более существенно выяснить подоплеку поступка Великого князя. Для этого обратимся к откровениям господина Пуришкевича, который в своем дневнике приводит один показательный эпизод, раскрывающий подлинные сердечные желания Владимировичей – сыновей Великого князя Владимира Александровича и Великой княгини Марии Павловны (Старшей). Пуришкевич рассказывает о том, что в бытность Ивана Григорьевича Щегловитова министром юстиции к нему однажды «разлетелся Великий князь Борис Владимирович [родной брат Кирилла Владимировича] с целью выяснения вопроса: имеют ли по законам Российской Империи право на престолонаследие они, Владимировичи, а, если не имеют, то почему?
Щегловитов, ставший после этого разговора с великим князем Борисом предметом их самой жестокой ненависти и получивший от них кличку Ваньки Каина, разъяснил Великому князю, что прав у них на престолонаследие нет вследствие того, что Великая княгиня Мария Павловна, мать их, осталась лютеранкой и после брака своего.
Борис уехал несолоно хлебавши, но через некоторое время предоставил в распоряжение Щегловитова документ, из коего явствовало, что Великая княгиня Мария Павловна из лютеранки уже обратилась в православную…».
26 ноября 1916 года по просьбе Великого князя Кирилла Владимировича Владимир Митрофанович Пуришкевич нанес визит ему и его жене Виктории Федоровне. Из разговора с Великим князем В. М. Пуришкевич «вынес твердое убеждение», что Кирилл Владимирович «вместе с Гучковым и Родзянко затевают что-то недопустимое в отношении Государя»145.
Таким образом, поступок Великого князя Кирилла Владимировича был продиктован внутренними мотивами, сформировавшимися задолго до рассматриваемого момента. Его действия находились в полном согласии с предшествующими событиями и были следствием фактического сговора с другими сообщниками против законного Государя, а также прямым продолжением попыток узурпации власти со стороны Великих князей, попыток, первоначально предпринятых Великим князем Николаем Николаевичем.
Потомки Великого князя Кирилла не оставили честолюбивых амбиций своего пращура. Сегодня ими прилагаются активные усилия для того, чтобы возвести на Российский Царский Трон немецкого принца Георгия Гогенцоллерна, рождение которого явилось следствием цепочки браков, незаконных с точки зрения Основного Закона Российской Империи о порядке престолонаследия. Грубое нарушение этого закона было допущено уже самим Великим князем Кириллом Владимировичем. Он, рожденный и воспитанный неправославной матерью, ради удовлетворения своей страсти пренебрег волей Императора Николая II и женился на своей двоюродной сестре Виктории Мелите, принцессе Саксен-Кобургской, неправославной и к тому же разведенной женщине. Своим поступком они причинили сугубую боль Государыне Императрице Александре Федоровне, т.к. первый муж Виктории Мелиты, с которым она развелась из-за любовного романа с Великим князем Кириллом, был родной брат Государыни Эрнст, Великий герцог Гессен-Дармштадтский. Все выше изложенное свидетельствует о том, что правнук Великого князя Кирилла Владимировича, отпрыск принца Франца Вильгельма Прусского Георгий не может серьезно рассматриваться как возможный претендент на Российский Престол ни с точки зрения закона, ни с точки зрения нравственности, ни с точки зрения наследственности (т.е. отношения к роду Романовых). Исчерпывающе подробно эта тема освещена в работах Леонида Болотина146 и Михаила Назарова147.
Надо ли перечислять всех остальных, так или иначе причастных к «великому делу» Великих князей – уничтожению русской православной государственности, а вслед за ней и русского народа? Назовем хотя бы тех, кого не смогла не помянуть в связи либо с травлей, либо с откровенным предательством Их Величеств Анна Александровна Вырубова в своих воспоминаниях. Итак: Великий князь Николай Николаевич; Великая княгиня Анастасия Николаевна (его жена); Великая княгиня Мария Павловна (Старшая); Великий князь Николай Михайлович; Великий князь Александр Михайлович; Великий князь Сергей Михайлович; Великий князь Дмитрий Павлович; Великий князь Кирилл Владимирович; княгиня Зинаида Юсупова; князь Феликс Юсупов Сумароков-Эльстон; фрейлина Софья Николаевна Васильчикова; фрейлина Тютчева; камергер Двора Родзянко – председатель Думы; княгиня Голицина – свояченница Родзянко; сэр Бьюкенен – английский посол; генерал Алексеев – начальник Генерального Штаба; генералы Рузский, Эверт, Брусилов, Непеин, Корнилов; военный министр Поливанов; члены Думы Гучков, Милюков, Пуришкевич, Керенский, Шульгин, при вольном или невольном одобрении и молчаливой поддержке многих духовных лиц…
Этот далеко не полный, скорее беглый список позволяет сделать следующий вывод. Было бы неправильным сводить все к «заговору Великих князей». Разрушение такого масштаба, как падение Русского Самодержавия, невозможно было осуществить вдруг – вследствие амбиций и предательства ограниченного слоя русских людей. Ясно, что требовалась громадная подготовка, и прежде чем произошел обвал Российского государства, щупальца дьявольского механизма разрушения, называемого масонством, пронизали всю толщу народного организма, как раковые клетки, поразили все слои образованного русского общества. И все же… Не внешние факторы являются первичными причинами. Существо измены и предательства кроется в душах людей. И цена предательства разных людей – разная. Если на поле боя дрогнет простой солдат и повернет спину неприятелю – это еще не беда. Энергия и воля командиров привлекут новые силы, новых бойцов. Враг будет остановлен. Но если предатель – сам командир, горе тем солдатам, над которыми он начальствует. А если предатель – командир армии? Катастрофа неизбежна. Сражение будет проиграно – позор армии, бедствие народу, гибель Отечеству. Вот цена предательства Великих князей, которая несоизмерима с виной остальных вольных или невольных участников заговора. Великие князья – командиры армий в прямом и переносном смысле, вожди народа, первая и самая могучая государственная опора Русского Царя. И вот эти-то опоры рухнули. Можно ли было удержать от падения все здание? Тем более, что отовсюду прилагались мощные усилия, чтобы повергнуть Русский Колосс…
Не покажутся ли наши рассуждения слишком категоричными, предваряющими Божие определение о каждом из этих людей? Возможно. Но разве не исполнилось грозное прещение, возглашавшееся с амвонов русских церквей в первую неделю Великого поста: «Помышляющим, яко православнии государи возводятся на престолы не по особливому о них Божию благоволению, и при помазании дарования Святаго Духа к прохождению великаго сего звания в них не изливаются: и тако дерзающим противу их на бунт и измену, анафема, анафема, анафема».
Тиханович-СавицкийСлава Богу! Не все русские люди поддерживали изменнические настроения аристократической верхушки, военной и государственной элиты. Среди русских людей различных сословий оказалось немало верных сынов своего Отечества, безусловно, видевших надвигающуюся опасность и пытавшихся хоть как-то повлиять на неумолимый ход событий, предупредить об опасности своего Государя. Документы и воспоминания сохранили имена многих самоотверженных русских людей, до конца преданных Царю и присяге, не пожелавших запятнать свою совесть не только соучастием в творившемся беззаконии, но посчитавших для себя неприемлемым даже равнодушное молчание и бездействие, когда молчанием предается Бог.
Анна Александровна рассказывает о некоем Тихановиче – «члене Союза Русского Народа, который приехал из Саратова». Он располагал доказательствами и документами насчет опасной пропаганды, которая ведется союзами земств и городов с помощью Гучкова, Родзянко и других в целях свержения с престола Государя. Не добившись результатов в других инстанциях, он умолял Анну Александровну устроить ему прием у Их Величеств. Благодаря ей он смог изложить свои сведения в получасовой беседе с Государыней148. Подтверждение того, что этот разговор состоялся, вновь находим среди архивных телеграмм:
«12 января 1917
Царско-Сельский Дворец
Астрахань
Тихановичу-Савицкому
Сердечно благодарю получила Вырубова».
«19 января 1917
срочно
Астрахань
Тихановичу-Савицкому
Все получено горячо благодарили Вырубова».
«3 февраля 1917
срочно
Астрахань
Тихановичу- Савицкому
Все получено благодарит привет Вырубова»149.
Нам неизвестен смысл этой переписки, однако, думаю, не будет большим нарушением строгих правил исторической науки, если сделать предположение, что переданная через Анну Вырубову горячая благодарность была выражена Их Величествами тому самому члену Союза Русского Народа Тихановичу (иначе – Тихановичу-Савицкому) в ответ на его преданность и верную службу. Возможно (учитывая срочность телеграмм), эта переписка была связана именно с пересылкой важных документов.
О Тихановиче упоминает и А. И. Спиридович: «Флаг-капитан Его Величества, генерал-адъютант Нилов доставил Государю телеграмму из Астрахани от некоего Тихановича, предупреждавшего о заговоре»150.
По всей видимости, именно этого неравнодушного человека, горячего защитника Самодержавия и верного слугу Царя упоминает современный исследователь черносотенного движения Анатолий Дмитриевич Степанов. Из его книги «Черная сотня (взгляд через столетие)» узнаем, что астраханский купец Нестор Николаевич Тиханович-Савицкий был председателем Астраханской Народной Монархической партии. Как один из руководителей черной сотни, был арестован в феврале 1917 года. Дальнейшая судьба его неизвестна. Как пишет А.Д. Степанов, «где-то сгинул после октября 1917 года»151.
Старик-крестьянинСпиридович приводит трогательную историю о том, как во Дворец пришёл старик-крестьянин, просивший встречи с Государем. Он рассказал дежурному флигель-адъютанту, что «против Государя готовится заговор: «Задумалось злое дело. Хотят погубить Царя-батюшку, а Царицу-матушку и деток спрятать в монастырь. Сговаривались давно, а только решено это начать теперь. Самое позднее через три недели начнется. Схватят сначала Царя и посадят в тюрьму, и вас, кто возле Царя, и главное начальство тоже посадят в тюрьму. Только пусть Царь-батюшка не беспокоится. Мы его выручим. Нас много»152.
Караимский гахамУдивительный пример верности Царю находим в воспоминаниях Анны Александровны, связанный с именем человека не русского, но тем не менее преданного друга и слуги Русского Царя и России – караимского гахама [священнослужителя у караимов] Шаптала, который был «образованным и очень милым человеком, который читал мне [Анне Александровне] и рассказывал старинные легенды караимского и татарского народов. Он, как и все караимы, был глубоко предан Их Величествам». В августе 1916 года этот Гахам умолял обратить внимание на деятельность сэра Бьюкенена и на заговор, который готовился в стенах посольства с его ведома и согласия. «Гахам раньше служил по министерству Иностранных Дел в Персии и был знаком с политикой англичан. Но Государыня и верить не хотела, она отвечала, что это сказки, так как Бьюкенен был доверенный посол короля английского, ее двоюродного брата и нашего союзника. В ужасе она оборвала разговор»153.
Великий князь Павел Александрович и герцог А. Г. ЛейхтенбергскийПриведём ещё один пример мужественного исполнения долга перед Царём и Отечеством. Он связан с именем герцога Александра Георгиевича Лейхтенбергского. О его благородном поступке поведала Анна Александровна: «Взволнованный, он просил меня передать Его Величеству его просьбу, от исхода которой, по его мнению, зависело единственно спасение Царской Семьи, а именно: чтобы Государь потребовал вторичной присяги Ему всей Императорской Фамилии…»154.
Ради исторической справедливости следует заметить, что среди Великих князей не до конца иссяк дух благородства и самоотверженности. Проявление добрых человеческих качеств в страшные дни всеобщего предательства были встречены Царственными узниками с особенной теплотой и благодарностью. Анна Александровна упоминает о благородстве и бесстрашии Великого князя Павла Александровича – дяди Императора, который по-человечески вполне мог быть обижен на Государя, не признавшего его морганатический брак с княгиней Пистолькорс. За ослушание в этом вопросе Царской воли и вследствие нарушения Основного Закона Российской Империи, запрещающего Великим князьям вступать в неравнородный брак, к тому же с разведенной женщиной, был решительно наказан Государем высылкой Павла Александровича из России. Поводом к неприязни могло послужить и нежелание Государя смягчить наказание его сыну, Великому князю Дмитрию Павловичу, за участие в убийстве Григория Распутина. Однако друг познается в беде, и вопреки всему сказанному в тяжелую минуту Великий князь Павел Александрович оказался рядом с Царской Семьей. «Ее Величество рассказывала мне после, – пишет Анна Александровна Вырубова, – что преданный им Великий князь Павел Александрович первый привез ей официальное известие о революции…».