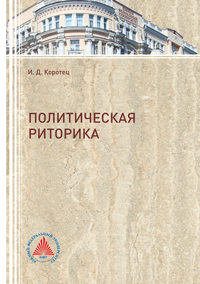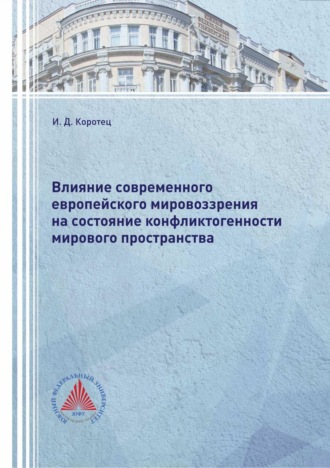
Полная версия
Влияние современного европейского мировоззрения на состояние конфликтогенности мирового пространства

И. Д. Коротец
Влияние современного европейского мировоззрения на состояние конфликтогенности мирового пространства
Печатается по решению Комитета по гуманитарному и социально-экономическому направлению при Ученом совете Южного федеральногоуниверситета (протокол № 5 от 5 июля 2024 г.)
Рецензенты:
доктор политических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета С. П. Поцелуев;
кандидат философских наук, доцент кафедры Философии и мировой религии Донского государственного технического университета А. В. Федосеенков
© Коротец И. Д., 2024
© Южный федеральный университет, 2024
© Оформление. Макет. Издательство Южного федерального университета, 2024
* * *Немногие для вечности живут,
Но если ты мгновенным озабочен —
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!
О. МандельштамПредисловие
В соответствии с различными взглядами интеллектуалов индустриального общества осознание жизни осуществляется очень сложным образом. Осознание в целом может интерпретироваться как мировоззрение – форма отношения людей к миру и к себе. Любое мировоззрение соответствует той целостной системе, в которой социальность живёт, осуществляя в каждый момент времени своё воспроизводство. Мировоззрение отражает конкретное состояние системности и одновременно творит её. Причём последние интерпретации особенностей этого процесса убеждают нас в том, что мировоззрение в своих многочисленных формах создает конфигурацию восприятия мира и влияет, а точнее определяет способы деятельности, в которых реализуются конкретные ментальные установки: вначале было слово.
В то же время люди, которые традиционно выживали в пространстве многочисленных вызовов, имели господствующую матрицу мировоззрения, в соответствии с которой мы – жертва обстоятельств, представляющих собой неотвратимую необходимость. А осознание в структуре этой неизбежности представляет лишь способ реакции на её содержание, позволяющий лавировать человечеству между плохим и худшим. На самом деле ситуацию можно поставить с головы на ноги и при современном состоянии ресурсов сознательно создавать позитивную резонансность социальной системы. Однако этого переворота не происходит, а ресурсы сознательным образом превращаются в угрозу для человечества.
Почему ситуация, не удовлетворяющая большое количество членов различных сообществ, воспроизводит насилие, невзирая на великолепные обещания претендентов на политическую и иную власть? Может быть, не только реальность содержит в себе источник зла, но и наши попытки осознать, как улучшить ситуацию, имеют препятствия к этому? Так называемое традиционное общество существовало тысячи лет. Многие его элементы продолжают использоваться в социальной организации до сих пор. Западная парадигма, в отличие от традиционной, существует всего пятьсот лет, но она всё время создаёт серьёзные проблемы, которые накапливаются и принимают угрожающую для целостности цивилизации форму.
Но возникает принципиальный вопрос: представляет ли современный мир целостность, которая нуждается в совершенствовании? Приходится на него ответить: нет. Несмотря на множество процессов, объединяющих планетарную жизнь в единство, в первую очередь, глобализацию, социальный мир представляет собой трайбалистский лоскутный ковёр, по которому время от времени прокатываются бомбардировки. Мир нуждается в системно-сетевом внутреннем синтезе, который сможет преобразовать локальную обособленность своих элементов в единство, не ущемляющее ни интересы, ни действительные права всех участников объединения. Мне могут возразить, что это отношение к миру – утопия, попахивающая очередным фашизмом. Я не буду спорить, поскольку данная задача имеет в буквальном смысле космический уровень по своей значимости.
Однако для автора ясны две проблемы: Западный мир создал предпосылки для возможного объединения в единую цивилизацию, и, во-вторых, в культуре накоплено достаточное содержание, позволяющее понять, что осуществлять этот процесс можно при серьёзном изменении мировоззрения. Решение первой проблемы позволит гармонизировать сообщество людей на планете. Если не двигаться в этом направлении, то угроза человечеству тотального уровня будет разрастаться. Вторая проблема связана с преобразованием стихийной, локальноорганизованной способности ориентироваться в изменяющемся мире, в более обширную, интегральную, вмещающую в своё пространство проблему осуществления транслокальности. Для подхода к единому миру необходимо иметь мировоззрение, которое превращение локальных стереотипов в единство будет воспринимать как нормальный естественный процесс. Пора осознать, что в локальном обществе даже нет когнитивных структур, которые бы занимались исследованием единства мира.
Наша задача в предлагаемом исследовании является, может быть непривычной, но достаточно скромной. Была поставлена цель осмыслить, как индустриальные процессы повлияли на исторически существующие формы ментальности, которая нами понимается, вслед за К. Юнгом, в качестве тождества сознательного и бессознательного. А также, каким образом эти естественные, но стихийно произошедшие изменения мировоззрения в технологически опережающем все остальные аспекты целостности западного мира процессы, влияют на организацию нашей жизни.
Автор надеется, что подобный подход к реальному социальному существованию принесёт пользу и позволит разрешить ряд задач, которые стоят перед культурой и потребностями развития человека.
Глава 1. Системное содержание рационального аспекта мировоззрения индустриального пространства
1.1. Предпосылки современной формы ментальности
Проблема адекватности отношения людей, а так же глобального сообщества к природе, всегда была камнем преткновения для сознания человека. На микроуровне системной организации любого сообщества данная ориентация выступает способом алгоритмизации каждого человека, создаёт его целостную определённость как индивида и личности. В зависимости от конкретного микромировоззрения каждого человека и многоуровневых групп, в которые мы входим, формируется конфигурация деятельности, осуществление которой и создаёт нашу жизнь. В то же время в качестве противоположности индивидуальной ориентации на макроуровне воспроизводится коллективное мировоззрение, которое характерно для различных макрогрупп людей.
Индивидуальные и коллективные ориентации одновременно тождественны и различны. Их зафиксировать во всей полноте и адекватности общественное сознание пока не в состоянии. Тем более, что реальность на планете такова, что осознание не имеет возможности выйти за границы большого числа противоречий, поскольку это затрагивает интересы множества членов общества, которые, как правило, обладают властью. Мы смутно представляем себе это мировоззренческое пространство, которое складывается как совокупность элементов хаоса и упорядоченности. Данная подсистема общества всё время изменяется в зависимости от социальных потребностей и многочисленных усилий людей, по-разному влияющих на эту целостность. Поскольку все люди обладают сознанием, они стремятся, как участвовать в совокупной системной деятельности, так и преследуют свои индивидуальные цели. В результате возможна некоторая степень резонансности при достижении коллективных целей, но, как правило, результат совокупной деятельности людей далёк от ожиданий её организаторов и остальной массы народа.
Любая коллективная деятельность имеет материальную и идеальную составляющую. Эти аспекты целостности представляют собой тождество, единство противоположностей, они постоянно переходят друг в друга в процессе непрерывного взаимодействия. Наша жизнь, как единство материального и идеального, обладает свойством серьёзного противоречия: мы укоренены в определённую реальность, в основе которой находится конкретная природная среда; с другой стороны, данная природа и человечество как её элемент являемся формой космического универсального процесса, закономерности которого выходят далеко за границы нашего понимания. Данное противоречие создаёт основу для раздвоения любого социального состояния на аспект космического универсального воспроизводства и момент непосредственного взаимодействия с конкретной природной средой посредством повседневной «земной» деятельности «обычных» людей.
В результате в одном и том же процессе нашей деятельности и жизни человечество и каждый член общества осуществляют двойную функцию – обыденного, земного и сверхъестественного космического воспроизводства. Причём соотношение «естественного и сверхъестественного» в этом единстве нам определить до сих пор не дано и, вполне возможно, что сверхъестественное для нас более значимо, чем естественное. В непосредственном выражении единство материального и идеального включает два аспекта: технологический и универсальный, «космический». Технологический аспект, соответственно, представляет по содержанию субъект-объектную ресурсность воспроизводства социальной системы во взаимодействии определённых членов общества с природой. Универсальный же процесс/аспект предполагает более развитых в отношении тождественности с «миром» людей, деятельность которых соответствует параметрам более глубокого космического резонанса. Эти «учителя» социальности влияют на целостный процесс жизни и его локальные подсистемы, зачастую оставаясь неизвестными, поскольку они всегда находятся в состоянии противоположности к власти, у которой в индустриальном обществе свои «земные» интересы.
Исторически процесс создания технологий взаимодействия общества с природой, а также формы общения членов общества, создавался при помощи ряда конфигураций. В традиционном обществе господствующей когнитивной системой выступала мифология. Мифологически – религиозное мировоззрение, впоследствии названное языческим, содержало большое количество образов, непонятных «современному» человеку. В этих метафорах в дорациональной для сторонника европейского сознания форме содержалась разнообразная информация и описание технологий, которым должны были следовать люди для достижения необходимого эффекта. Практически эта форма когнитивности была исследована Е. П. Блаватской и её соратниками – теософами. Но, к сожалению, в российском интеллектуальном пространстве к этим работам серьёзно относятся только единицы, которые не вписаны в научный процесс. В развитых странах Запада, например, в США, содержание работ теософов изучается гораздо подробнее, но в целях господства, а не содружества.
Начиная с античности, в Европе происходит нейтрализация мифологического осмысления мира. В философии развивается логически-сциентистская когнитивная ориентация и в целом научное мировоззрение, создающее рациональную ориентацию людей. Духовный аспект мировоззрения, в общем и целом, формируется в конфессиональном пространстве Христианства. Рациональность определенной формы и христианский догматизм способствуют быстрому развитию индустриально-информационных социальных отношений. В то же время европейская экспансия в отношении глобального пространства и непрекращающиеся войны прошлого и нынешнего веков побуждают нас сформулировать проблему: влияет ли структура наличного европейского сознания на уровень конфликтности в современном мире и в политике?
Для ориентации в содержании проблемы состояния осознания мира, нам необходимо исследовать ментальность как форму потенциальной ориентации в мире, и мировоззрение как ментальность, нагруженную установками в качестве предпосылок деятельности. Но эти категории нашего сознания представляют собой в сущности метафоры, без определённого соотношения тождества и различия. Поэтому в тексте они синонимичны, и только в необходимых случаях специально различаются. В рабочей исходной форме категории «ориентация или осознание мира», «мировоззрение», «ментальность» будут пониматься как совокупность интеллектуально-рациональных, психических, бессознательных, религиозно-конфессиональных и им подобных аспектов.
1.2. Сознание и логика непротиворечия в структуре мировоззрения
На вопрос, откуда и как пришло к людям владение логическим мышлением, ответить не так легко. Ответа в готовой форме по этому поводу до сих пор нет. Для того чтобы ответить на этот и подобные ему «вечные» вопросы, необходимо опускаться в тёмные для нас глубины истории, свидетельств по поводу содержания жизни в пространстве которых у нас невероятно мало. Проблемы возникновения лингвистического, культурного, рационального, логического и т. д. взаимодействия людей непосредственным образом осмыслить мы не в состоянии. По этой причине приходиться прибегать к косвенным элементам содержания, которые могут подсказать нам, как это было. Причём, как это может показаться парадоксальным, следы ушедшего прошлого можно находить в реальном времени, если понимать, что мы пытаемся найти.
В этом отношении можно констатировать, что в реальной культуре современный европейский человек может действовать на основании двух ментальных стереотипов. Суть одного способа ориентации в любом пространстве заключается в использовании известных паттернов знания и действия, которые каждый человек получает «от рождения», воспитания и образования в виде готовых алгоритмов. Их можно использовать непосредственным образом, не зная «откуда, как и почему». Как правило, мы уверены, что так есть и будет, мы это знаем. В сознательной ориентации существует готовое знание и технологическая установка на его реализацию. Вся остальная часть понимания каждого сюжета находится либо в бессознательном, либо за пределами конкретного человека.
Второй способ ориентации связан с пространством логически организованной рациональности. Субъект познания в этом процессе использует язык, интегрированный в сознание массив знания и опосредствованную матрицу универсальности в виде способов рассуждения для того чтобы разрешить проблему в той или иной степени определённости. В чистом виде эти способы мировоззренческой и технологической ориентации представляют собой классическое противоречие. Способ человеческой деятельности в пространстве этих матриц принципиально различен. Однако на самом деле, на уровне тождества противоположностей инновационного осмысления и использования полученного знания, эти два способа ориентации человека глубоко тождественны.
Причём в процессе воспроизводства материального и идеального следует обращать внимание на понимание данной целостности в отношении осознанности элементов универсальности. Так получение нового знания в социальности с низким уровнем осознания целостности, как правило, приписывается культурным героям, например, Гераклу. Их ментальные и технологические достижения в форме локального стереотипа фиксируются в нарративе соответствующей популяции и превращаются в деятельностный символ. «Так говорил Заратустра». Логика данного явления скрыта от последователей феномена до тех пор, пока она не осознаётся или не приобретает статус общности. Так не превращается в официальную логику мировоззрение Дао, но приближается к ней логика Конфуция.
При осознании логических конфигураций, которые начинают использоваться общекультурным, но в то же время локализированным образом, появляется стереотип мышления, позволяющий из истинных посылок «автоматически» получать истинные заключения. Так создаётся миф о том, что логика как наука создаётся Аристотелем. Почему миф? Потому что в греческой традиции существовал образ Одиссея, который за счёт своей мудрости отличался способностью разрешать нетрадиционные противоречия. Но Одиссей одной ногой находился в традиционном пространстве, а другой – в будущей европейской культуре как субъект, побеждающий всех при помощи агрессивного интеллектуального превосходства. Логика у становящейся греческой культуры ещё не выкристаллизовалась как нарратив, но потребность в нём и развитые предпосылки уже были. Творчество Аристотеля стало завершающим аккордом этого процесса в онаученной форме.
Кроме того мы, как европейцы, до сих пор предметно не владеем логическими ресурсами других культур, например, паттернами, разработанными в очень развитом ведическом пространстве. А с Аристотелем, как ни странно, Европа познакомилась на основе арабских источников, что косвенно доказывает высокий уровень развития сознания и логики и в азиатском мире. В целом можно предположить, что исследовательская и логическая культура возникает естественным образом в любом обществе, в котором складывается набор потребностей и предпосылок, соответствующий этим системным параметрам. Но в Европе процесс культурной и когнитивной ситуации приобретает специфическую конфигурацию, которая в пространстве наших ценностей более эффективна, чем на Востоке. Мы ещё слишком мало знаем об этих пропорциях в целостном измерении, но создаётся впечатление, что так нелюбимые в России «либеральные» ценности соответствуют некоторым потребностям подобного развития.
В движении нашего исследования пришла пора указать на ряд некоторых обстоятельств. Существует обоснованное мнение (Петров М. К.), что при возникновении европейской цивилизации происходит слом пропорций традиционного общества. [] Например, даже современные военные как логики-стратеги уверены, что для победы наступления в стандартных условиях необходимо как минимум троекратное ресурсное превосходство. Однако античный логический нарратив позволил Одиссею с сыном победить сотню врагов, а Македонскому – весь азиатский мир, правда, исключая Индию. Появляется совершенно новая форма легитимной организации социальных отношений, например, спартанцы, побеждают персов, уже сражаясь за свободу, а не просто обороняясь от врагов.
Эти изменения, которые привели через две тысячи лет к принципиальному изменению всей конфигурации населения планеты, захватывают все аспекты системы европейской культуры. Происходит кардинальная трансформация мировоззрения и всей интеллектуальной сферы, включая и логическую организацию. Сократ, Платон и другие античные мыслители формируют новую рациональную метафизику, а Аристотель концентрирует её в специфической логической форме. Каким же образом традиционная классическая формальная логика, самый скучный предмет для студентов и многих политиков, влияет на образ жизни европейцев, напрягая в XXI веке всё население планеты?
Главным моментом этих изменений явилось удвоение мира, в котором живёт европеец. Наряду с реальностью, которая превратилась в среду обитания, появилась сфера ментальности, созданная силой мысли, и сформировавшаяся как совокупность понятий. Вербальность и пространство понятийного содержания превратились в форму, в значительной степени определяющей смысл реальности. Реальность стала неопределённой, динамичной. Её девиация могла преодолеваться за счёт её ментальной интерпретации и кодификации. Подобная мировоззренческая матрица позволяет повысить степень проникновения сознания в мир объектов, создавать способы преобразования реальности в виде технологий взаимодействия и осуществлять его в процессе материальной деятельности. Преобразование природы и людей превращается в способ существования культуры, которая становится управляемой и целесообразной.
Осознание мира в понятийной форме меняет, в сущности, способ жизни человека. В традиционном обществе задачей выживания являлось отождествление людей с природой в соответствии со стереотипами, созданными богами и предками. Человек не знал в объективной форме «почему?», но знал «как» добиться позитивного воспроизводства общественного процесса. Например, кастовая форма организации семейного способа производства существует до сих пор, являясь устойчивой формой объединения человека с природой. Логическая организация осмысления мира модерна ориентирует социальность на овладение причинного обоснования преобразовательной деятельности, что значительно увеличивает ресурсные возможности. Логическая организация приводит к возникновению научного знания, которое проникает в сущность объектов познания, и тем самым значительно расширяет возможности приспособления мира к потребностям людей.
Однако трансляция реальности в языковую форму, а затем превращение языка в понятийную целостность, создаёт в то же время основание для подмены реальности её понятийной структурой. Пространство понятийной организации для интеллектуалов различного уровня разделения труда в сфере ментальности превращается в естественную реальность, которая создаёт сеть границ, которые переходить можно только в соответствии с законами познания, а не реальности. В результате подлинная реальность, в которой живут люди, может подменяться ментальными эрзацами, не соответствующими действительным потребностям общества.
Следующим изменением ориентации общества в пространстве реальности в результате воздействия логики Аристотеля следует считать превращение целостного мира в бесконечный набор вещей. Для того чтобы сформировать понятие, необходимо отделить предмет понятия от целостности и рассматривать его как самостоятельный, целостный и самодостаточный в его отделении от единства. Реальность же носит целостный характер. В ней нет отдельных самостоятельных элементов – вещей, целостных предметов. Аристотель прекрасно это понимал, утверждая, что «части бывают только у трупа». Это означает, что отделение любого момента непрерывной реальности в целях понятийного исследования требует возврата познанного в понятиях предмета – вещи назад в целостность. Этот момент доступен пониманию великих мыслителей, но, как правило, упускается мыслителями ранга пониже, и недоступен для понимания профанам, которые идеи авторитетов пытаются понимать как почти безусловную реальность.
Основной закон формальной логики – закон тождества диктует необходимость для исследователя заключать предметность познания в жёсткую границу как в крепость, и запрещать выходить за эти границы как за пределы табу. Целостность в результате исчезает, а вещи как посмертные маски приобретают статус неизменной определённости, которая основана на несовместимости тождества и различия, изменения и устойчивости, добра и зла. В реальности такое положение возможно только в отношении статичности, во всех остальных ситуациях приходиться прибегать к различным «уловкам» с целью включения моментов процессуальности в жёсткую определённость тождественного осмысления. Движение в такой логической организации познания может описываться только как смена состояний, которые осмысливаются как устойчивые формы. Над этой проблемой бились многие мыслители, например, Зенон Элейский, но изменить ситуацию в пределах формальной логики невозможно – она так устроена.
А что же происходит с ментальной ориентацией исследователя, который озадачен ситуацией несоответствия реальности и понятийного осознания, в котором господствует закон тождества? Следуя восточной традиции, можно сказать, что в состоянии ментального невежества мыслитель не будет замечать возникшего противоречия. В состоянии страсти, которое свойственно многим учёным, мыслитель отождествится с определённостью предмета исследования, и только уровень «благости» позволит ему интерпретировать свой определённый предмет в целостности на основе принципа дополнительности. Однако профаны в этой ситуации будут упорствовать на признании определённости, осмысленной другими, а не ими, в качестве истины. По данной причине так живучи идеологические установки современных политизированных «массовых» членов общества, которые не понимают содержания идеологем, но хотят им следовать по тем или иным причинам.
Жёсткую определенность аспекта реальности в вещной форме закрепляет основной закон формальной логики, запрещающий считать истинными суждения, которые противоречат друг другу. Практически всё рассудочное познание, за небольшим исключением модифицированных символических логик специального назначения, основано на запрете противоречия в рассуждениях. В особенности это свойство данной формы познания необходимо в сложных системах техники, в которых реализуется многоступенчатые алгоритмы, не допускающие внедрения различия в пространство тождественности.
С позиций не очень пока ясного целостного сознания можно предполагать, что господствующие формы логической организации сознания соответствуют историческим потребностям общества. Во-вторых, сознание в целом, его логические ресурсы, когнитивная ориентация как ментальная легитимность, определённые достижения в сфере понимания человеческой ситуации – все эти аспекты осознания и их целостность в определённой мере носят инструментальный характер. Суть инструментального подхода в пространстве целостности заключается в применении к объекту познания различных, но адекватных когнитивных ресурсов, позволяющих осмыслить определённый аспект объекта в границах его тождества.