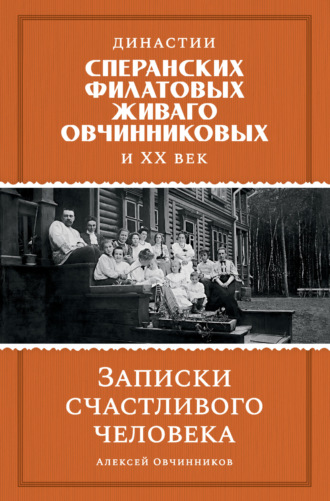
Полная версия
Династии Сперанских, Филатовых, Живаго, Овчинниковых и ХХ век. Записки счастливого человека
Ромаша, в отличие от своего младшего брата был тихим и покладистым мальчиком. Александр Васильевич вспоминает гувернантку детей Живаго Екатерину Алексеевну и пишет, что … с послушным и покойным Ромашей хлопот у неё было немного. Екатерина Алексеевна была неплохой художницей и приучила к рисованию обоих братьев Живаго.
Свое образование Роман, как и Александр, не без совета двоюродного брата своего отца Ивана Михайловича Живаго, начал пансионером школы г-на Керкова при реформатской церкви, куда поступил в 10 лет. Проучившись там четыре года, он был зачислен в четвертый класс Практической коммерческой академии. Эта академия, возглавляемая его дядей, была «семейным» учебным заведением для многих отпрысков рода Живаго и Овчинниковых. Учился он старательно, хотя «звезд с неба не хватал». Став, как тогда говорили, «академистом», он, как и его отец, увлекся театром, хотя по воспоминаниям его младшего брата, «по средам перед театром почему-то у Ромаши часто болела голова или он не успевал приготовить уроки» и в театральную ложу отправлялся еще больший театрал Александр.
Окончив шестой общеобразовательный класс академии, Роман Васильевич, как пишет его брат, «прошел два специальных и в 1873 году получил звание личного почетного гражданина Москвы». По окончании академии в 1877 году он отбывал воинскую повинность в качестве вольноопределяющегося, а затем провел несколько лет за границей. Вернувшись в Москву в 1887 году, он женился на Таисии Ивановне Казаковой, девице купеческого происхождения, подруге Веры Александровны Овчинниковой, моей прабабки. В 1884 году у них родилась дочь Татьяна, в 1889 году – сын Василий, а спустя два года – вторая дочь Наталья, моя бабушка. Вместе со своей семьей Роман Васильевич поселился в особняке, принадлежавшем его отцу, на Никитском бульваре. Особняк и поныне стоит на том же месте. Незадолго до Первой мировой войны Роман Васильевич приобрел имение «Новое» при селе Покровское-Новое Клинского уезда, в нескольких километрах от станции Подсолнечная (теперь город Солнечногорск). Там во вновь построенном трехэтажном доме с флигелями и большим парком прошли первые годы жизни моего отца и его сестры Натальи.
О коммерческой деятельности Романа Васильевича сведений немного. Известно, что он получил неплохое наследство и был совладельцем магазина военно-офицерского обмундирования и до Октябрьской революции жил безбедно. Роман Васильевич состоял членом правления Московского торгово-промышленного товарищества, членом совета Московского городского ремесленного училища им. Г. Шелапутина, действительным членом Московского общества любителей коммерческих знаний и Общества бывших воспитанников Императорской Московской практической академии коммерческих наук. Одно время он занимал пост директора Московского филармонического общества. Был почетным членом ряда благотворительных обществ (например, Московского общества пособия нуждающимся студентам Императорского Московского университета и Общины сестер милосердия им. Святого апостола Павла). Много сил и времени отдавал деятельности общественных организаций, связанных с разведением и защитой животных и птиц (в том числе Московского общества любителей птицеводства и Российского общества покровительства животным).
Роман Васильевич обладал большим художественным и музыкальным талантом. Прекрасно писал масляными красками и великолепно играл на скрипке. На протяжении многих лет в его московском доме на Никитском бульваре каждую неделю проходили домашние квартеты, в которых вместе с ним играли многие известные российские и иностранные музыканты. Его коллекция музыкальных инструментов, включавшая скрипки Страдивари, Гварнери и других известных мастеров, считалась одной из лучших в Москве. Помимо участия в домашних квартетах, Роман Васильевич неоднократно выступал в публичных концертах, как в России, так и за рубежом. В частности, известно его успешное выступление в концерте, данном в 1908 году в городе Баденвейлере (Германия) по случаю открытия там памятника А.П. Чехову.
Как и его братья, Роман Васильевич был заядлым охотником и являлся почетным членом всевозможных охотничьих клубов. Кроме того, он был большим любителем породистых собак, возглавлял Московский гордон-сеттер-клуб и обладал великолепными гордон-сеттерами и пойнтерами. Особенно славился его кофейно-пегий пойнтер Рокет-1, выигравший в 1898 году чемпионат России, а затем получивший еще целый ряд призов в России и за границей.
В декабре 1917 года московским Советом рабочих депутатов были национализированы московский дом Романа Васильевича со всей обстановкой и обожаемая им бесценная коллекция скрипок, в которую он вложил много сил и средств. По моему предположению, эта коллекция была положена в основу Государственной коллекции музыкальных инструментов, экспонаты которой неоднократно временно выдавались ведущим российским музыкантам – Давиду Ойстраху, Елизавете Гилельс, Михаилу Фихтенгольду, Марине Козолуповой, Борису Гольдштейну и другим, и во многом способствовали их победам на международных конкурсах, позволив прославиться на весь мир. Роман Васильевич не смог пережить потерю своего детища и скончался 29 января 1918 года в своем имении Новое за несколько месяцев до его экспроприации местными Советами. Похоронен он был на кладбище Алексеевского монастыря в Москве. Этого кладбища, как и кладбища Покровского монастыря, где были похоронены другие мои предки, сейчас не существует.
Александр Васильевич Живаго – врач, путешественник, египтолог.Младший брат Романа Васильевича Живаго Александр не был моим прямым предком. Так же как и знаменитый педиатр, родной брат отца моей бабушки по материнской линии, Нил Федорович Филатов, он приходился мне двоюродным пращуром. Я решил написать про него, так как это был уникальный по своим разносторонним интересам человек. Он оставил после себя чрезвычайно интересное литературное наследие – книгу воспоминаний и дневники, которые он начал вести в детстве и продолжал до самой своей смерти. Подлинник «Воспоминаний» А.В. Живаго хранится в архиве Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, а большая часть дневников – в Театральном музее А.А. Бахрушина в Москве. «Воспоминания» А.В. Живаго дают представления не только о жизни обеспеченной московской семьи, ее обычаях и привычках, но и о самой Москве XIX века, навсегда ушедшей в прошлое и исчезнувшей из памяти моих современников.
Во вступительной статье к воспоминаниям А.В.Живаго, изданным (к сожалению в сокращенном варианте) его потомками Николаем Живаго и Петром Горшуновым в 1998 году к столетию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, их редактор Вадим Гельман пишет, что Александр Васильевич Живаго по праву занимает важное место в ряду деятелей отечественной культуры. «Благодаря тому, что сохранился его личный архив, есть возможность проследить, с одной стороны уникальную, а с другой – трагически типичную судьбу русского интеллигента и творческой личности в переломный период истории страны, уцелевшего в вихре войн, революций, при большевистском режиме».
Александр Васильевич родился, – как он сам указал в своих воспоминаниях, – «Августа 28-го 1860 года…» в доме своего двоюродного дедушки Сергея Афанасьевича Живаго, где в то время жила семья его отца Василия Ивановича. «Впечатлений от доброго старого времени, даже до 10-летнего возраста, у меня немало. Большим буяном рос я, плохо слушался родителей, …а потом и добрейшую первую нашу гувернантку Екатерину Алексеевну Заборовскую. Некрасивая, далеко не молодая уже в то время, старая дева, она умела занимать брата Романа и меня. Институтка, сравнительно недурно образованная, хорошо знавшая французский язык (отчаянно плохо было ее произношение); немало труда затратила она на то, чтобы усадить за книги и тетрадки своего любимчика Сашу, отчаянного баловника и непоседу».
Далее я привожу повествование Александра Живаго об их выходах в город в сопровождении гувернантки. Оно мне представляется удивительно «сочным» и показывает давно забытый моими современниками торговый центр Москвы 70-х годов позапрошлого столетия. «Ежедневные прогулки, всегда сопряженные с поручением купить то или другое и всегда с опаской растерять мальчуганов, совершались, собственно говоря, только в трех направлениях: на Тверскую, на Кузнецкий мост и в Город (Гостиный двор). На Тверскую ходили большей частью в колониальный магазин Андреева, где так приятно пахло всякой снедью. Мятный пряник, десяток орехов или несколько черносливин, сунутые нам в руки, давали возможность «Киксевне» приценяться и отдавать распоряжения по доставке на дом тех или иных товаров, развозимых по Москве чудными битюгами разных мастей. Смотреть ездили этих могучих, чисто русских лошадей, стоявших в своих нарядных сбруях у крыльца магазина под гостиницей «Дрезден»… Большое удовольствие доставляли мне прогулки на Кузнецкий мост и особенно посещение книжного магазина Маврикия Вольфа, только что открытого тогда отделения его петербургской фирмы; большой по тому времени магазин помещался на левой стороне Кузнецкого моста в том доме, где теперь английский магазин Шанкс. Заходили в магазин Ревеля, бойко торговавшего дамскими материями, в большой магазин "Русские изделия" в доме князя Гагарина, полный модниц, заезжавших туда за всевозможным товаром, а частью ради интересных встреч и свиданий. Заглядывали, но не часто, за пирожками или конфетками в старенькую кондитерскую Трамбле, бывшую Педотти… Холодные мраморные львы, стоявшие у подъезда магазина Саг-Галли, задерживали на минутку – надо было снимать забравшихся на них всадников. Не оторвет нас бедная Екатерина Алексеевна от окон эстампного магазина Дойяпо, помещавшегося в старом доме на месте нынешнего пассажа Джамгарова.
Оживление на Кузнецком мосту в те времена было большое, того и гляди попадешь под раскормленных лошадей, запряженных в кареты и коляски с рыластыми, толстобрюхими кучерами, хваставшимися своими конями, разноцветными, угластыми бархатными шапками и зычными голосами. В восторг всех приводила серая пара с горячей пристяжкой усатого полицмейстера Огарева. Говорили, что квартальные тайно платили кучеру его солидную мзду за то, чтобы он уже издали оповещал постовых служителей о проезде предержащей власти. Ну, и надсаживался, оповещая, чернобородый гигант…
Наибольшее же удовольствие доставляли нам весьма частые прогулки в «город», в старые торговые ряды, Не забудешь ни Ножовой Линии, ни узеньких, резко пахучих, каждый на свой лад, рядов, часто битком набитых покупателями… "Иголки, нитки, булавки, атлас, канифас, козловые, прюнелевые ботинки", "к нам пожалуйте, у нас покупали", – все эти выкрики так и неслись в уши. Зазывалы старались один перед другим, горланили, не жалея глоток, а иногда заворачивали без церемоний в свои лавки салопниц и особенно нерешительных провинциалов. Курились … какие-то ароматические бумажки, сновали пирожники и блинщики, носились, пролезая часто между ног, толпы мальчишек, за которыми нередко гонялись молодые приказчики. Шумно, забавно, благоуханно.
Побывав в "Никольском Глаголе", в писчебумажном магазине Жукова, где закупались тетради, грифельные доски и гусиные перья в разноцветных пеналах или примерив сапожки с красной сафьяновой оторочкой у Королева в Ножовой Линии, мы, вечно обуреваемые аппетитом, начиная клянчить и ныть, уже упрашивали наставницу зайти в приветливый и грязненький Сундучный Ряд, где в полутемном помещении за покрытыми пестрыми скатертями столиками можно было с удовольствием съесть парочку жареных пирожков или ветчины с горчицей, от которой глаза лезли на лоб, а то и белужки с красным уксусом. На свой счет часто угощала нас добрейшая Екатерина Алексеевна. На сие баловство денег ей не давалось.
Да и несколько лет спустя, уже гимназистами, забегали мы нередко в Сундучный Ряд и проедали свои пятаки. Любил я блины с луком с деревянных лотков, ломал на заклады пряники, проигрывая безбожно, пробовал сбитень, но не решался есть дули (моченые груши) с квасом из бочонка, так как видел, как освежали их разносчики, окропляя мочальной кистью водой из лужи, и никогда не мог решиться попробовать гречники, в надрезы которых из металлического грязного кувшинчика наливали продавцы отвратительное черное масло.
Не раз мы где-нибудь в Ветошном, Шапочном, Широком или Сундучном ряду стаивали с удовольствием за торжественным молебствием, слушая прекрасный хор чудовских[25] певчих и голосистых соборных дьяконов. Молебны эти совершались перед громадными иконами, висевшими в рядах. Под местной иконой тесным полукругом располагали особо чтимые привезенные иконы. Грязный донельзя каменный или кирпичный пол с его канавкой, тянувшейся во всю длину ряда, густо засыпался можжевельником, и Ряд в день своего праздника выглядел несравненно чище и наряднее».
Интересен рассказ Александра Васильевича о посещении бани. Ходили они туда с отцом, который «почему-то любил старенькие грязненькие бани, расположенные на самом берегу Москвы реки у Каменного моста. В дворянское отделение за вход платилось по гривеннику с персоны. Живо мы раздевались в холодноватой раздевальне и гуськом бежали за отцом в жарко натопленную и переполненную народом мыльню, где баньщик обрабатывал нас по очереди мочалкой, после чего мы, все в мыле, дожидались обливаний из шайки, которая опорожнялась сплошь да рядом на весь гурт разом. Вернувшись в раздевальню, завернешься в простыню, залезешь, бывало, чуть не на подоконник и обтираясь, через разрисованное морозом оконце, любуешься замерзшею рекою. Было известно, что эти бани охотно посещались любителями выбегать голышом из жарко натопленной бани на мороз…
Великий пост всегда соблюдался в нашей семье в то время, хотя и не очень строго. На первой и на последней неделе, а иногда и на четвертой на столе часто появлялся мой заклятый враг – протертый горох с конопляным или горчичным маслом, картофельные котлеты и нелюбимая мною в детстве капуста. Выручали пироги с морковью, гречневой кашей или с грибами и кисели. Отец с матерью приучали нас любить и есть все, что подается на стол. Помнится, не ел я щей, недолюбливал пирожные. Попытка отказаться от них кончалась плохо – лишали мяса и заставляли есть пирожное при непременном условии отстоять часок-другой в углу. Устанешь стоять на ногах, опустишься на колени…
Покойному отцу хотелось, чтобы мы кроме танцев обучались еще и гимнастике, и мы с братом Романом посещали, хотя и недолго, гимнастические залы шведа Бродерзена и хорошего знакомого отца француза Пуаре. Могуч был коренастый и грудастый Пуаре, с большой любовью относившийся к своему делу. В его громадном двухсветном зале старательно занималось много учеников обоего пола. Во время урока «вольных движений» в первых двух шеренгах обычно стояли молодые девушки в своих гимнастических коротеньких юбочках, шеренги за ними были составлены из молодых ребят гимназистов».
«Весело жилось в доброе старое время, – вспоминает Александр Васильевич свою юность. – Масляничные поездки на тройках, семейные маскарады и маскарады в Большом театре… Новогодние маскарады Большого театра нам посещать было трудно. Домашняя всенощная и молебен предшествовали в нашей семье поздравлению отца с днем ангела и новогодними пожеланиями. Но раза два я попал все-таки на эти развеселые маскарады. Не забуду никогда моего удивления, когда в мой дебютный вечер мы с товарищем гимназистом Володей Пашковым в дешевеньких костюмчиках Пьеро только что поднялись на лестницу от главного входа, как я сразу почувствовал себя в объятиях сильно декольтированной маски, влепившей мне тут же два сочных поцелуя. Польщенный этим горячим приветствием, каюсь, я был смущен, но не надолго, так как живо освоился с атмосферой самого непринужденного веселья, царившего в громадном зале, переполненном отчаянно канканирующими москвичами различнейших общественных рангов»…
В десятилетнем возрасте Сашу, вслед за братом Ромой, отдали в пансион в частную школу Эмме Васильевича Керкова, находившуюся в Трехсвятительском переулке близ Покровского бульвара. Об этой школе, где он проучился три года, у Александра Васильевича остались самые неприятные воспоминания. «Безобразное обращение с нами людей, поставленных во главе дела, их влияние на состав всей педагогической коллегии, их неумение или нежелание подобрать необходимых для пользы учреждения дельных, толковых и гуманных помощников и, в полном смысле слова, бестолковое, лишенное разумного плана обучение – что кроме вреда могло принести все это нам, отданным в их грубые, жестокие и малоблагородные руки?..»
После третьего класса названной школы, осенью 1872 года Саша, выдержав проверочные экзамены, был принят приходящим в третий класс частной гимназии немца Креймана. И опять неудача: «С наибольшим неудовольствием вспоминаю я учебный сезон 1872/1873 года, проведенный мною в стенах этой отвратительной немецкой гимназии…». К счастью мальчика, за дисциплинарные проступки (свист во время урока, в чем он не был виноват, как выяснилось позднее), а затем за обнаруженные у него в парте весьма искусно нарисованные им карикатуры «положительно на весь персонал Креймановской гимназии от самого директора до ватерклозетного дядьки включительно», он был исключен из этого учреждения. Директор Франц Иванович просил отца Саши согласиться с тем, «что после этого ему невозможно считать в числе учеников своей первоклассной гимназии такого одаренного воспитанника». Отец согласился и решил перевести Александра в казенную гимназию. «Не скажу, чтобы я плохо учился в этот год, но те знания, которые я приобрел от моих преподавателей, оказались совершенно неудовлетворительными для третьего же класса казенной гимназии, куда судьба занесла меня на следующий учебный сезон», – пишет Александр Васильевич. С грехом пополам, пройдя переэкзаменовку по Закону Божию. Саша был зачислен в третий класс 3-й классической гимназии на Большой Лубянке.
И об этом учебном учреждении остались у него не самые лучшие воспоминания. «Весьма высокие требования, предъявлявшиеся к нам преподавательским персоналом, а главным образом непомерные строгости инспекции, широкой рукой налагавшей на нас самые суровые наказания за сравнительно ничтожные проступки, были особенно характерны для жизни гимназий эпохи 70-х годов». Как выяснил позже Александр Васильевич, причиной этого был лаконичный приказ министра просвещения графа Толстого, разосланный им директорам всех казенных гимназий в 1872 году. Приказ был действительно немногословен – он заключал в себе только три слова: «Подтянуть, граф Толстой». Ну и подтягивали, кто на что был способен…
Несмотря на многие трудности и неприятности, Александру удалось успешно закончить гимназию в 1882 году. «Весело отпраздновали мы окончание гимназического образования. Перед нами были широко отворены двери Университета, предстояло вновь много и усиленно работать, но совершенно в других условиях. Каждому было предоставлено право избрать себе занятия теми науками, которые он считал себе по душе». Александр выбрал для себя медицинский факультет Московского Университета.
После окончания университета в 1886 году Живаго получил звание лекаря и в течение многих лет успешно проработал в «Голицинской» (теперь 1-й Градской) больнице, где со временем был назначен заведующим отделением. Во время работы врачом он опубликовал в отечественных и зарубежных медицинских журналах ряд научных статей. В 1910 году он был избран членом правления больницы. Работа на медицинском поприще сочеталась у Александра Васильевича с активной светской жизнью. Он увлекался охотой, участвовал в состязаниях по стрельбе в имениях своих друзей, был постоянным членом клуба, часто посещал театры. Об этой последней страсти Живаго речь пойдет ниже.
«Вместе со своими братьями в принадлежащем им подмосковном имении «Дулепово», он увлеченно занимался сельскохозяйственными преобразованиями: формированием лесопарковой зоны с научно обоснованными посадками экзотических деревьев, созданием системы прудов с разведением редких промысловых пород рыб, налаживанием крупного, современно оснащенного племенного конного завода. Кажется, столь разнообразная деятельность может с лихвой заполнить существование не одного человека. Но были еще два увлечения юности, с годами превратившиеся во всепоглощающую страсть – путешествия и изучение древней истории и искусства»[26]. К 1910 году он объехал многие государства Европы. Как написала Н. Махарашвили[27] в газете «Русская мысль», – «добрался до французских колоний в Северной Африке, путешествовал по Сахаре». Но главной его мечтой было посещение Египта.
По словам самого А.В. Живаго «Египтологией и историей древних государств Средиземья я занимался с 1896 года». Он изучал труды знаменитых востоковедов, коллекции предметов культуры и искусства, найденные при раскопках древних цивилизаций, участвовал в археологических экспедициях на территории России. Наконец, в 1910 году исполнилась его «давно лелеянная мечта» – он побывал в Египте. В течение двух «отвоеванных» им месяцев, он совершил путешествие по Нилу от Александрии до границы с Англо-Египетским Суданом (Вади-Хальфа) и обратно, проплыв на пароходе 1300 километров, а после этого вернулся домой «сложным археологическим маршрутом через Палестину, Сирию и Турцию». Об этой поездке он написал интереснейший отчет, иллюстрированный великолепно сделанными им самим рисунками, фотографиями, диапозитивами, для знакомства с которым я отсылаю любознательного читателя к оригиналу в архиве ГМИИ имени А.С. Пушкина или к упомянутой выше книге «А.В Живаго – врач, коллекционер, египтолог», где он опубликован в виде отрывков[28].
В Египте было положено начало его коллекции памятников древневосточной цивилизации. Это произошло в Каирском Музее. «Каждый раз, покидая Музей, – вспоминал Живаго, – заходили мы в его "Salle de vente"[29], где весьма любезные и полные знаний молодые французы-служащие отпускали мне за недорогую цену те или другие памятники, предназначенные музеем к продаже… Составив себе довольно интересную небольшую коллекцию предметов древнего египетского искусства, я и в последствии пополнял ее, адресуясь к ним в Каир и прося их не отказать выслать мне намеченное мною. Любезные сотрудники Музея исполняли мои просьбы, не раз делая розыски нужных мне предметов у лучших антикваров города. Коллекция еще разрослась благодаря вниманию одного лечившегося в Хелуане друга, который завязал с ними знакомство и с их помощью находил интересовавшие меня предметы как в зале продаж Музея, так и на стороне, всегда полагаясь на их умение отличать подделки».
За несколько лет до смерти, в конце 30-х годов прошлого века, Александр Васильевич Живаго составил завещание, по которому после его кончины вся его коллекция древнеегипетских памятников культуры и искусства должна была перейти в собственность Музея изобразительных искусств. Мне удалось увидеть ее в апреле 1998 года, когда она была выставлена в помещении личных коллекций ГМИИ имени А.С.Пушкина.
Александр Васильевич был творчески одаренной личностью. Он писал неплохие стихи и, часто посещая дом своего брата Романа на Никитском бульваре, участвовал во многих развлечениях собиравшейся там молодежи. А.В. Попов в «Книге о папе» рассказывал: «Иногда по вечерам мы собирались за чайным столом и начинали сообща сочинять стихи, причем в этой игре нередко принимал участие и Александр Васильевич Живаго – "дядя Саша", большой любитель молодежи. Он постоянно рассказывал нам про свои путешествия, а раз даже в течение нескольких часов читал нам лекцию о Египте, демонстрируя при помощи волшебного фонаря бесконечное число диапозитивов, сделанных им самим во время путешествия. В его квартире все комнаты были заставлены шкафами с прекрасными книгами и сувенирами, и для него не было большего удовольствия, как зазвать к себе несколько человек из нашей компании и показывать им свою египетскую коллекцию и наиболее интересные книги. Кто попадал к нему вечером, раньше трех-четырех часов ночи не уходил из его уютной, чрезвычайно интересной квартиры…»
Живаго думал, что еще не раз посетит так интересующий его Египет, но планам его осуществиться не удалось: вскоре началась Первая мировая война, а за ней пришла и всероссийская катастрофа 1917 года. Зато после египетского путешествия и научного отчета о нем Александром Васильевичем стали интересоваться в Музее изящных искусств Александра III, как до революции назывался ГМИИ имени А.С. Пушкина. Он не раз читал там лекции и проводил экскурсии по залам древнеегипетской культуры. В 1915 году его пригласили занять должность Ученого секретаря музея. Сначала Живаго отказался, так как не хотел бросать свою работу в больнице. Но в 1917 году в Голицинской больнице поменялось начальство и «новую администрацию, – как пишет В. Гельман, – возглавила бывшая сиделка Машка Дронова и ее революционное окружение». Буржуазный интеллигент Живаго был вынужден уйти из больницы. В течение почти двух лет Александр Васильевич, лишившись работы и всего своего состояния «буквально замерзал и умирал с голоду». Заграничные родственники звали его к себе, но Живаго не хотел оставлять Россию. В 1919 году вновь поступило предложение от Музея стать Ученым секретарем, и Александр Васильевич с радостью принял его. «Душой я воскрес…» – написал он в своем дневнике.



