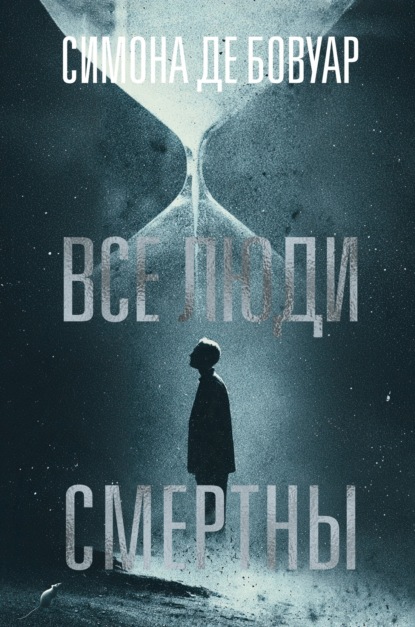Полная версия
Когда нас держат
В его первое воскресенье дома они поехали к Молк-Хоул. В ранней дымке меловые утесы походили на айсберги. Они понаблюдали за метелью птиц, моевки пожирали собственные вопросы, крики отзвуками раскатывались средь утесов. Джон держал Хелену за руку и ощущал печатку, что некогда принадлежала ее матери, волосинка золота, словно карандашная черта вокруг ее пальца. М – это Мара; у нее на руке теперь же М – это мама.
– Могли б сбежать, – прошептала Хелена еще перед тем, как он ушел в армию, с ним рядом в темноте.
– Куда б мы делись?[2]
Долгое молчание.
– На Сент-Килду.
Он тогда рассмеялся.
– Там мы будем бросаться в глаза, как пугала.
Даже ей стало от себя смешно, пока не возмутилась.
Ныне же Джон знал, что, смеясь, был неправ. Он жить не мог без ее неистовости ради них, вместе. Она разбудила его тогда посреди ночи: какое отношение к ним имеет воинская повинность? Теперь же, когда она подняла руку к волосам, чтоб их не сносило ветром ей в лицо, он увидел ее оголившийся загривок над свитером. Всю тайную мягкость, какую ему дозволено тронуть.
– Могли б найти где-нибудь пещеру, – замышляла она тогда в темноте, – прятали б дым от костерка, на котором стряпали, жили б одной крапивой и добычей из моря…
Нынче они вновь стояли на утесах. Он не мог понять, с чего ему так повезло, – его же оставили помирать, выпотрошенного, отброшенного.
* * *Пока готовился ужин, мы выстроили дом на кухонном столе из камешков с пляжа. Порой, когда сходили с горы, такие уставшие после подъема, ужином был суп из жестянки, галеты, выдранные из пачки, квадратик шоколада у огня. Дом некогда был мельницей на прядке воды. Мы читали друг дружке в неумолчном плеске ручья и моря, спали под одеялами тяжелыми, как обволакивающая ночь. Что стало с фонарем стрелочника, с камешками на столе? Кто читает отцову книжку рассказов Толстого под одеялом? Был другой дом, дощатая хижина у тарна, кровать, стол, лоскут половика, мойка, дровяная печка, раскрашенные ставни, байка о детстве, рассказанная в темноте. Твоя синяя рубашка. Море было обширным, как смерть, сказал ты, билось так громко, что даже за ужином, за столом нам приходилось шептаться. Рты и уши. Звезды – как свет дневной сквозь плетенье шторы. Мы никогда не жили вдали от звука или вида воды. Был домик рабочего в городке, который построил глиний, и паб посреди поля, где проснулись мы средь инея на каждом волоконце и ворсинке, былинке, клепке и камешке, в серебряной филиграни микроскопической точности. Дорогу к развалинам мы обнаружили в сумерках. Галеты, фляжка чая в машине. Рукава у нас мокры за окном машины, мыты чашки наши дождем.
Я пишу это, Джон, не потому что считаю, будто ты забыл, а потому, что знаю: ты помнишь.
* * *Над морским дымом, в эхокамере утесов, назойливые крики моевок, словно надеялись они на иной ответ. По всему побережью – каменные зеркала, слушают.
* * *Фотографическое ателье, над которым они жили, оставалось закрыто с того дня, когда он ушел служить. Теперь он поднял жалюзи на витринах и оценил, что еще требуется. Джон увидел, что Хелена раскрасила и разметила мелом новые задники для студии – летний сад, вид издали на луг и горы, итальянизированная терраса, рояль.
Сил у него пока не было, и он не мог стоять подолгу так, чтоб ему не жгло ногу. Хелена убедила его нанять помощника – кого-то опытного, кто знает химикаты и процессы, умеет выставлять свет и бутафорию для максимального воздействия. Кого-то, кто знает про тень. Готового человека звали мистер Роберт Стэнли.
– Лондон – большой город, а это была маленькая контора… Но вы его, быть может, знаете – заведение мистера Соера на Эксмут-Маркет. – Мистер Роберт Стэнли воззрился на Джона с откровенным рвением.
– Я напишу мистеру Соеру и попрошу рекомендаций.
– Мистер Соер не вернулся из Франции, сэр.
– Так за вас поручиться больше никто не может?
– Нет, сэр. Я всему научился у мистера Соера и больше нигде не работал. Быть может, вы меня испытаете несколько дней – без оплаты – и посмотрите, заблужусь я в темноте или нет. – Мистер Стэнли ухмыльнулся. – Увидите, гожусь ли я вам. Сэр. У каждого свои подходы к тому, как все делать. Я такое уважаю и учусь быстро. Вам всего раз только нужно сказать, чего хотите, и я тогда буду знать.
Оказалось, это правда. Мистер Роберт Стэнли обладал значительной хваткой. Сцену мог осветить так же хорошо, как и Джон. А то и лучше.
* * *Мистер Стэнли был из Питлохри; чего ж он не вернулся домой после демобилизации?
– Там теперь родни не осталось. – А зачем приезжать сюда, в этот городишко? – У меня тут тетка была, я в молодости ездил к ней в гости. – Счастливые воспоминания? После молчания: – Ага.
Иногда они устраивали перерыв и стояли на улице, курили вместе в скудном солнечном свете. Джон почти ничего не знал о своем помощнике, кроме того, что был он подмастерьем у фотографа в Лондоне, пока его не призвали.
– Никаких у меня знаков отличия, – сказал мистер Стэнли. Значит ли это, что он предстал перед военной комиссией и ему отказали? Более ничего мистер Стэнли не пояснял. Джон осознал, что скрытность помощника тревожит его меньше, чем могло бы разоблачение; это, вероятно, предпочтительнее. Молчание меж ними не было близостью, да и особо приветливым его не назовешь. Но и недружелюбным не было. Просто признание отношений взаимного удобства, желания ладить друг с другом, с наименьшими сложностями. Иногда мистер Стэнли нарушал молчание не замечанием или вопросом, а утверждением, как будто заявлял что-то для протокола, чтоб не возникало сомнений в, скажем, его поддержке Тройственного союза[3] или Попларского бунта[4]. Частенько Джон ему отвечал лишь день-два спустя, после того как ему выдавалось время все обдумать, и только если чувствовал, что ему есть что добавить. Он тщательно измышлял ответ свой так, чтоб тот был равно, а то и, быть может, более убедителен, а затем ронял в пространство между ними собственное заключение:
– По иронии ни одна политическая система, какой бы сокрушающей или ущемляющей ни была она, не действует без основополагающего допущения свободы воли; ибо любая система зависит от повиновения этой свободной воли. – Или: – Всякий раз, стоит нам утаить правду, мы ослабляем нашу волю.
Тогда мистер Стэнли, как ему было свойственно, коротко кивал, словно бы сам набрал очко, допивал свою пинту и грохал пустым стаканом по столу. Однажды вместо ответа мистер Стэнли просто расстегнул пиджак и показал ему свернутый экземпляр «Рабочего»[5] у себя в нагрудном кармане.
* * *Джон помнил дедовы сапоги у задней двери в прародительском доме под Фламборо-Хед, две дыры, куда его собственные детские ножки могли провалиться целиком. Однажды проснулся он рано и увидел, что лампы на кухне уже зажгли. Подумал было, что там молится его бабушка, но она вязала. Ему б хотелось теперь сунуть ноги свои в те сапоги и войти в них в море. Хотелось бы оставить в одном из тех сапог свою хромую ногу, выкинуть ее вместе с плетеными коробами, какие вечно громоздили за задней дверью у прародителей, вонь влажного ивняка, рыбы под дождем, грязи их огорода, замаринованной в морском рассоле. Сам бы себе ногу отпилил, кабы верил, что это прекратит боль, но он знал, что никогда она не исчезнет, даже если не станет его самого.
* * *Бечевник в конце заросшего огорода вел к реке; плакучие ивы, трава и осока, постоянные быстрины, что некогда согревали сердце мельнику за плотиной. Хелена развернула одеяло, а Джон поставил корзину в тень. Вода на ступнях у них была холодна и чиста. Он так долго сидел, глядя, как в воде движется свет, что она задалась вопросом, не прозревает ли он в этом некий порядок. Затем он откинулся на спину, наблюдая, как в чистом небе движутся ивы, пока у него не закрылись глаза. Запах пропеченной солнцем травы. Хелена взяла его руку и положила ее себе на бедро; он ощутил гладкую силу ее под цветастым платьем. Подумав о душе, вообразил он состояние отвлеченного чувства – однако не мог представить себе эмоции, не присоединенной ни к какому особому переживанию, не присоединенной к телу, к телу Хелены; возможно ли знать что-то такое, чего не знает наше тело? Рождаемся ли мы с чувствами уже в нас, какие только и ждут, чтоб их распознали? Окажется ли ужас, не связанный с воспоминанием, чище, мощнее – или будет ослаблен отвлеченностью? Манерка, где плещется с дюйм грязной воды. Если давился – по крайней мере, дышал. Воздух – стихия, способная протухать. Вот видишь, думал он, я по-прежнему способен на упорядоченные, точные слова вроде протухать, тошнотворный, гноиться, разлагаться…
– Как нам повезло, – прошептала Хелена, не громче дыхания (самой себе, реке, благословенному дню), чтоб только не разбудить его.
* * *В подарок к его возвращению домой Хелена нарисовала сцену на ставнях у них в спальне, чтоб, даже когда закрыты они, Джон все равно видел мерцание луны за рекой.
* * *Его удивило, до чего быстро отыскали его заказчики и как не терпелось им сняться всей семьей.
Приходили они, одевшись в лучшее. Мужчины предпочитали сидеть, скрывая ампутацию или шину, другие позировали в профиль, чтобы в кадр не попала повязка на глазу, шрамы, увечья поглубже. Джон знал о необходимости этих портретов для жен и матерей – доказательств возвращения домой, доводов в пользу веры в то, что семейная жизнь возобновилась, свидетельств различных видов и степеней выживания и возвращения. Сам он презрел бы камеру как таковую или же презрел бы иллюзию и предъявил бы объективу увечья.
Работал он методично, вдумчиво, благодарный за препараты и растворы, за ритуал всего этого. За то, что творимое светом выявляла тьма. Джон сразу же оценил чуть ли не вороватое проворство мистера Стэнли; тот был неприметен и опрятен. Вскоре Джон уже не сомневался, что вещи найдутся на тех же местах, куда он их клал, особенно в темной комнате. Однако имелись признаки того, что вне ателье мистер Стэнли был другим человеком – быть может, более чем несдержанным в своих мнениях и политических воззрениях: не потому, что был беспринципен, но как раз из-за своих принципов. Судя по всему, сдержанность не была естественна для мистера Стэнли, а скорее являла собой плод дисциплины, одновременного признания им как факта, так и поверхностности его субординации. Послушание мистера Стэнли накрепко помещало Джона во власть его помощника; насмехалось над ним, усиливая эту хватку; налагало сообщничество. Неравновесие силы стало очевидно чуть ли не сразу, все равно что распознать чей-нибудь почерк – на миг он словно бы заметил тень, отброшенную на черты мистера Стэнли изнутри. Джона этот быстрый проблеск натуры мистера Стэнли не обеспокоил: он скорее увидел в нем свидетельство честности, практичности. Но презрения мистера Стэнли он опасался.
Они готовили декорацию для семейного портрета, разворачивая горы и накрывая стол длинной тканью, которая прикроет недостающую конечность одного из сидящих. Впервые работали они вместе, Джон вынес ткань и пояснил, для чего она: «спрятать то, что невидимо, и скрыть то, что не следует видеть». Мистеру Стэнли он сказал, что предпочел бы фотографировать правду – чтобы вызвать не жалость, а ярость.
Мистер Стэнли, как обычно, кратко кивнул – не соглашаясь, знал Джон, а в насмешку.
– Мы не ребятки с жестяными лицами, которые все свои дни проводят на синих скамейках в Сидкапе.[6]
Он знал, что не заслужил пренебреженья мистера Стэнли. И раз он все еще мог мыслить в понятиях поругания и помешательства, если распознавал значение этих слов, уж точно что-то в нем еще оставалось здраво. Ему хотелось ответить мистеру Стэнли, но он придержал язык. Хотелось спросить, если б только это не казалось вопиющей жалостью к себе, сколько частей надо у нас отнять прежде, чем мы перестанем быть собой.
* * *Он все еще улавливал, как Гиллиз думает в темноте, он по-прежнему просыпался под голос его.
– То, как мисс Элла пела, – говорил Гиллиз, – уводило тебя от края – или сталкивало с него.
Его испугало, что Гиллиз вдруг оказался рядом – касался его рукава, затем совал что-то ему в руку.
Он ощутил знакомые очертания carte-de-visite[7]. Слишком темно, не разглядеть, что изображено.
– Это моя мать и я, – произнес Гиллиз.
– Откуда твои родом?
– Абергавенни… Но теперь там никогошеньки.
– А девушка у тебя есть?
Джон выяснил, что это возможно, даже в непроглядной тьме, – различить, как человек опускает лицо в ладони.
* * *Аккуратно одетый юноша уже дожидался у ателье, когда Джон спустился отпереть дверь. Ему хотелось сделать снимок, чтобы подарить отцу. Мать его умерла, пока он воевал, объяснил он, а теперь он уезжает работать далеко, и отец его опять останется один. Джон оценил юношу: прямой ростовой портрет, быть может – с книгой в руке, простой задник бархатных портьер. Джон кивнул, чтоб юноша входил.
Вставил негативодержатель в аппарат.
– А больно будет? – пошутил юноша.
– Только если вам есть в чем исповедаться, – в ответ пошутил Джон.
Юноша прекратил улыбаться.
– «Льюис» или «викерз»?[8] – спросил мистер Стэнли, казалось возникший из ниоткуда.
– «Викерз», – ответил юноша, вдруг оживившись.
От вопроса юноше тут же стало непринужденно. Отчего Джона беспокоило то, что его помощник так хваток? Не следует ли этому радоваться?
– Если вернусь завтра, будет готово? – спросил юноша.
Джон кивнул.
* * *Хелена накрасила доску так, что та почти стала квадратом ночи – ну или как можно ближе к тому, как ей виделась темнота. А потом ко всей этой шири тьмы добавила единственную каплю краски, меньше карандашного острия, точка света дальнего пламени свечи. Затем прибавила почти неуловимый переход сияния, с первого взгляда лишь черноту. И еще написала бесконечно малый зазор между пламенем и фитильком, который с тем же успехом мог быть и провалом, поскольку природа диктует, что пламя и источник его топлива никогда не соприкасаются. А потом сделалась одержима тем зазором и вновь написала его как увеличенную деталь, то пространство, что позволяло пламени существовать, отношение пламени к фитильку неотличимо от отношения души к телу, то и другое на привязи дыханья.
* * *Они читали в постели. Их первая ночь жизни над ателье, новобрачные. Хелена написала рощу на стене за кроватью, чтоб спать они могли под деревьями. Он вскочил и пустился вниз по лестнице.
– Что ты делаешь? – спросила тогда Хелена.
Он вернулся с метлой.
– Что ты делаешь? – вновь спросила она.
Он поставил метлу к стене.
– Чтоб можно было осенью подметать листву.
Тогда она улыбнулась и закрыла дверь в их спальню, чтоб он увидел, что́ за ней: там она так реалистично изобразила садовые грабли, что на длинной рукояти, горящей от солнца, Джон видел текстуру дерева. Она заранее подумала об этом солнечном свете, чтобы горел он даже спрятанным за открытой дверью.
Он взял тогда ее за руку, и они вернулись в постель, где он исчез под одеялами, чтоб упокоить голову свою на тонкой ткани ее ночной сорочки, к которой испытывал непреходящую нежность, сорочки, вечно исчезавшей к утру.
* * *Если б то был животный звук, хищный, он бы не так ужасал, как это промышленное биение, словно сами тучи обратились механизмом. Луна была яркой заплатой марева, словно слабое свечение далекой детонации. Биение, казалось, доносится из собственного черепа и передается сквозь все тело, словно жужжащий кабель предчувствия.
* * *Его мать уехала жить в Хейлзуорт, и Хелена порой туда к ней удалялась – местечко казалось спокойным настолько, насколько лишь можно было надеяться в те дни безотлагательности, обвального ужаса, бездействия. Навещать Хелену и свою мать в увольнении, а потом вновь возвращаться на службу было переходом столь нереальным, что он запросто мог бы лишиться рассудка; лучше было б сойти с ума, нежели удерживать этот осадок, себя осталось в нем довольно, чтобы сгрести лопаточкой и просеять безумие, словно химик, лихорадочно ищущий противоядие от своей же отравы.
Но тогда, во мгновение, между отъездом и возвращением не окажется разлада, вообще никакого смысла в этом не останется.
* * *Снизу мальчик видел в тучах два красных глаза. Он вскочил на велосипед и рванул по Лондонской дороге в Тебертон, где летчик – в пижаме, наслаждаясь чашкой чая перед сном, – тоже услышал гудящее небо. Пока взор этих ужасающих глаз не отрывался от железнодорожной линии до Хейлзуорта и миновал Сэксмандэм, летчик поднялся в воздух все еще в халате и сбросил огневое заграждение. Семь вечных минут все слышали только шелест пламени, а цеппелин соскальзывал вниз, чтобы разбиться на жатве у Истбриджа, один скелетный конец торчит из земли, похожий не на то, что упало на землю, а на кита, прорывающего поверхность моря.
* * *– Мы б могли надеть все, что у нас есть, и уйти посреди ночи, – сказала тогда Хелена. – Должны ж быть места, где можно спрятаться, – Гебриды, Шетланды… Фула… Сколько понадобится, чтобы уйти куда-то пешком, исчезнуть? Будь у меня мужество, я б стукнула тебя по башке или подлила тебе в чай и похитила тебя. Мы б замели свой след, жили б с овцами…
– Ты любишь меня недостаточно для того, чтобы треснуть сковородкой?
– Не смейся надо мной.
С их кровати он слышал реку; воображал магниевую вспышку луны, ее ломаный свет, и ощущал, как мочат ему рубашку ее волосы, все еще влажные после их купания.
* * *Не знаю, где ты или что ты видишь, поднимая голову к небу, когда мы говорим друг другу «спокойной ночи». (Ту же луну, по крайней мере.) Приехала твоя мать, и мы скользили по реке в ее подарке. За всю свою жизнь я не представляла себе великолепия гребной лодки в виде свадебного подарка или подобной дражайшей свекрови, знающей меня так хорошо. По счастливой случайности неподалеку от твоей матери поселилась моя подруга Рут Ллойд со своей малышкой, и у Рут возникла превосходная мысль приглашать к себе твою мать, а иногда наоборот, поэтому теперь получается навещать их обеих одним днем, порою оставаясь у твоей матери ночевать, перед тем как сесть на обратный поезд. Рут хорошо поладила с твоей матерью, которой так полюбилась дочка Рут, что Рут теперь навещает твою мать и без меня. Поэтому у твоей матери много гостей, и она никогда не бывает подолгу одна.
Вчера вечером я ждала очень допоздна, а потом искупалась в реке в полном уединении, если не считать Цыгана, который лежал на берегу и наблюдал, а его бьющий хвост приминал клок травы. Вода была холодна, как снег, хотя я думала о тебе и мне было тепло.
* * *Ночую в одной комнате с твоей матерью, чтобы у нас обеих была компания и чтобы мне быть рядом с Рут и помогать ей с малышкой, когда родится.
Сейчас следующий день – едва я приехала к твоей матери, как Рут сказала, что пора, я снова теперь в поезде, еду к Рут и допишу письмо уже оттуда…
Здесь тетушки и сестры Рут, и все сестринство Ллойдов взирало на новорожденного в изумлении: мальчик – первый в семье после прапрадеда Рут! Все боготворят его с первого взгляда…
* * *Он вспомнил руки Хелены у нее на коленях: не уверена, стоит ли ей ждать, пока к ней кто-нибудь подойдет, или же лучше заказать чай самой у буфетчика, не уверена, что за обычаи в этом новом краю, сельский паб на железной дороге, в петлице ее пальто все еще цветочек – из, как она потом выяснит, сада, где они с Рут устраивали пикник, чтобы отпраздновать первый день рождения дочки Рут. Рут первой из школьных подруг Хелены завела детей, за эту подругу держалась она; этой связи он потом станет свидетелем, словно бы поглядит на произведение искусства, которого не в состоянии понять, на что-то достойное уважения, нечто безошибочной красоты. Немногое безошибочно, думал он, и оно заслуживает нашего признания, а то и благоговения.
* * *Над Хейлзуортом миновала лишь доля секунды; все время, какое требуется для того, чтоб некое скопление событий обуяло весь мир, чтобы нечто утратилось невозвратимо, отделившись от первоначального значения, – фотография или дневник в развалинах, на которые пялятся посторонние. Потерялись вместе с теми сокровенностями, что образуют подлинную биографию и никогда не записываются, всегда неизвестны; бессчетные внутренние подстройки, какие проводим мы, чтоб быть в этом мире, чтоб приютить наше одиночество, нашу тоску по воссоединению.
* * *Небо было совсем черным, а вот река, словно алюминий, сияла. Моим голым ногам и рукам стало зябко от ранней темноты. Постоянно сверкала молния, но ни капли дождя. Почти два часа вода оставалась совершенно недвижна. Затем, на один отдельный миг, листва колыхнулась, и поверхность сделалась единым мерцанием – и все равно вновь стала бездвижна. Теперь в этой спокойной поверхности чуялась тревога, нечто живое и присутствующее, но без дыхания. Призрак. В черном небе возникло небольшое отверстие, а в нем – несколько звезд. Медленно отверстие это разрослось до ночной шири. Звезды светили ярко, а судороги молний все длились, но всю ночь – ни капли дождя.
* * *Хелена думала спрятаться вместе в пещере, возможно – в одной из пещер Фламборо, но побережье уже стало оборонительной линией с ее каменными зеркалами. Или, может, в Шотландии, в горах, научившись разводить такой костерок для стряпни, какого никто не увидит, и жить на одних лишайниках и лососе, пока не минует чума воинской повинности. Думала она притвориться, будто он не различает цвета, слабоумный, думала обернуть ему голову бинтами и сказать, что у него сотрясение. Вместо всего этого он, когда его призвали, пошел и действительно жил под землей, и действительно выучился разводить бездымный костер.
– Вода у меня в каске такая тухлая, что муху убьет, – сказал Гиллиз, у которого никого не было – ни братьев-сестер, ни родителей, ни девушки. Чего ж тогда в армию не записаться? Ничто так не подкрепляет твою принадлежность чему-то, как мундир. Гиллиз терпеть не мог засыпать при дневном свете, как будто это было величайшим преступлением против природы, какое он мог усвоить в том месте.
* * *Джона неразумно оскорбляло, что их взрывчатка поступала аж из Канады – дикой глухомани, которую он воображал нетронутой и чистой: факт этот, казалось, нацелен на то, чтобы уничтожить еще одну грезу, которую он в себе даже не подозревал. Такое случайно подслушиваешь на заре, перед тем как уснуть. Рядом с ним Гиллиз, кто всегда выискивал какую-нибудь собаку, чтобы спать с нею рядом, как-то раз поведал про своего дядю, которого надул деловой партнер, и он все потерял, и, впавши в старости в маразм, постоянно спрашивал об этом предателе, умолял позволить ему с ним повидаться, считал его старинным другом, помнил только, что они с ним крепко связаны, а вот природы этой связи уже не помнил.
– Можете себе вообразить? – спрашивал Гиллиз всех, кому случилось его слушать. – Можете представить, как это – не помнить врага?
Да, он мог это вообразить – в мире настолько вверх тормашками, что живые спали под мертвыми.
* * *Хелене нравилось, когда он поднимал ее длинные волосы у нее над головой на подушке и гладил ее по загривку, нравилось засыпать под такое его касание, как кошечке, это нежное местечко, темные волосы ее текут вверх, такие густые у него в руке, мех, думал он, засыпая и глядя на руку Гиллиза в мокрой собачьей шерсти, от всех смердит. А теперь, вновь с нею рядом, просыпается посреди ночи и думает, будто лежит рядом с Гиллизом и ему снится его жена.
* * *Другие женщины отказывались воображать смерть своего мужа, отказывали ей в каком-либо месте у себя внутри; а вот Хелена наконец-то поняла, что суеверие – такая разновидность иронии, какая действует наоборот. Если она глянет прямо в лицо ей, если залпом выпьет ее возможность до дна и опивки проглотит, он уцелеет. Он станет неуязвим. Разве не так действует новая прививка? Позволив отраве поселиться в себе, она его предохранит.
* * *Ему потребовалось некоторое время, чтобы осознать: шумы, его разбудившие, – у него в голове.
* * *Поначалу он верил, что будет не как другие мужчины, что никогда не станет впустую тратить того, что между ними, что он всё запомнит. Но он не мог удержать в себе всего, их время уже зыбилось. Через сколько времени оно все исчезнет совсем, от их годов вместе останется лишь горсть образов, ощущений; через сколько времени он уже не будет помнить ничего?
* * *Ни у него, ни у нее не было ни братьев, ни сестер, родители Хелены умерли, никакой родни не пригласить на их свадьбу; лишь его мать да подруга Хелены Рут, еще со школы. После церемонии они пили чай в церкви, а потом Рут нужно было на поезд домой. Его мать села на поезд в другую сторону. Брачную ночь свою они провели над тем пабом, где познакомились, в номерах, предназначенных для редкого путешественника или посетителя, который перебрал. То была комнатенка с очагом, возле кровати окошко с видом на поля. После закрытия – эта сельская тишь. Наконец, когда в пабе внизу не осталось ни звука и они решили, что даже хозяин уже улегся, они разделись. Как свадебный подарок она ему вручила изощренный шелковый халат. Он ей – брошку, которую ему передала мать как раз для такого случая: птичка, умостившаяся среди нот на нотном стане, «чтобы всегда была гармония» между ними. Скучая по своей матери, она заплакала и приколола ее к ночной сорочке, та провисла под щедрой тяжестью украшения. Из окна выглянули они на то место, где стояли под небом в их первую ночь, у калитки на станцию; перед тем, как он поднял сорочку ей над головой и впервые увидел ее тело в лунном свете.