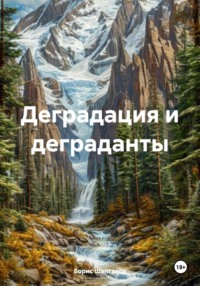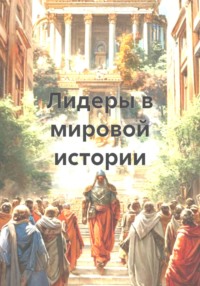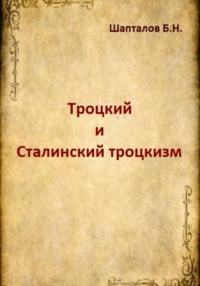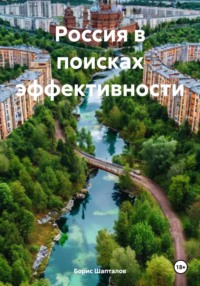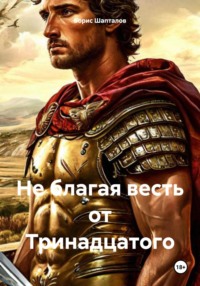Полная версия
Кто подставил Красную Армию
Советский Союз с самого начала заявил о себе, как о потенциальном общемировом лидере (отсюда и земношарный герб). И уже спустя два десятилетия в битве с фашизмом доказал право считаться лидером. И этот статус признали на Ялтинской и Потсдамской конференциях западные великие державы. А после 1945 года выяснилось, что общемировыми лидерами являются всего два государства – США и СССР! Остальные могут выступать лишь в качестве их союзников. Так получилось, нравится кому это сегодня или нет. И такое положение сохранялось более сорока лет.
Если сейчас советский проект считается неудачным, то в 1940-70-х годах во всем мире многими он оценивался как крупнейшее положительное событие ХХ века. Но ведь и либеральный проект на рубеже 1980-90-х годов считался наилучшим. Философ Ф. Фукуяма стал знаменитым, опубликовав в 1990 году статью, в которой объявлял о «конце истории» и наступлении всемирной эпохи либерализма. Кто же думал, что так скоро наступит кризис либерализма, в том числе альтернативы «красному проекту федерации народов» – нынешнего Евросоюза? Как все сложно, оказывается, в мире устроено: только порадуешься решению всех и всяческих проблем, как кирпич на голову летит…
Тухачевский предчувствовал и приближал лидерскую роль «красного» государства. Ныне многих его позиция раздражает. И вправду, чем плохо сидеть на печке? И что с того, что современную Россию официально низвели до уровня периферийной державы, включив в так называемую группу БРИКС, куда входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Возможно, для кого-то это и лучше. Но надо понимать, что это не есть эталон существования. Не нравится жить, как пассионарии – не живите, но есть смысл уважать тех, кто мог менять историю. Уважать хотя бы потому, что мы сейчас живем, паразитируя на их наследии. Ну, а если мы считаем, что можем сделать лучше чем они – так надо доказать это на деле, а не критиканствовать. Критика импотентов Дон Жуана может быть объективно справедливой, но все равно иметь нехороший субъективный привкус.
Сколько танков нужно в мировой войне?
В 1936 году к власти во Франции пришло правительство левого «Народного фронта». Помимо реформ в сфере рабочего законодательства, оно пошла на удивительный для левых шаг – выступило с инициативой принятия программы перевооружения армии. Французские генералы были приятно удивлены. Однако около года ушло на раскачку, и когда программа была запущена на полную мощность, то к войне успеть не удалось. Точно также на старте задержалась Великобритания. Лишь перед войной удалось запустить в серию два современных истребителя – «Харрикейн» и «Спитфайр», а также новые типы танков. Успеть не удалось, но с помощью новых моделей истребителей удалось выиграть воздушную битву за Англию и тем сорвать возможную десантную операцию. Но главной защитой Британии все же стала естественная преграда – воды Ла-Манша. И лишь одно государство начала подготовку к войне заблаговременно и к ее началу оказалась довольно хорошо готово технически. Такой страной оказался Советский Союз.
Как такое могло случиться? Ведь Россия всегда запаздывала и выправляла ситуацию уже в ходе войны. А тут…! Чудо предвидения связано с одним именем – Михаилом Николаевичем Тухачевским. Именно он стал неутомимым пропагандистом заблаговременной всесторонней подготовки страны к неизбежному.
Как уж говорилось, в 1930 году Тухачевский обратился с докладом, в котором выдвигалась программа формированного вооружения Красной Армии. Цифры впечатляли. Автор предлагал создать «железный кулак» в составе нескольких десятков тысяч танков, мощной авиации, артиллерии, причем в самые сжатые сроки. Этот курс послужил основанием современных публицистов обвинить Тухачевского по двум пунктам: а) в авантюризме, и б) в агрессивности.
Конечно, тысячи танков и создаваемые на их основе мощные ударные соединения – механизированные корпуса явно предназначались не для глухой обороны. Значит ли это, что Тухачевский обязательно планировал завоевать Земной шар? Нет, речь шла совсем о другом.
Известно, что СССР вступил в войну, имея танков больше всех в мире. Такого количества стеснялись советские историки и замалчивали, а когда в «эпоху гласности» цифры были опубликованы, то публика ахнула – 20 тысяч стальных машин! И понеслось про «планы Сталина завоевать Европу». Зачинщиком же рекордного производства танков был Тухачевский. Значит, он был либо неумен, либо авантюристом… Ах, эти простенькие идеологические стереотипы современных умов! Никто не потрудился задать простой вопрос: с каким количеством танков победили во Второй мировой войне, которые были главной ударной силой на суше? Ведь – подчеркну – танки в той войне значили больше, чем просто бронированные машины; больше, чем средства оперативного наступления. Они стали инструментом стратегии, как военной, так и политической. И это новшество надо было еще предвидеть!
Что, собственно говоря, значат эти 20 тысяч танков? Почему Тухачевский стремился к «баснословному» производству танков? Первая версия: конечно, чтобы завоевать Европу и далее весь мир. А может ли быть другая, не столь экзотическая версия? Может, если предположить, что Тухачевский исходил из опыта Первой мировой войны в преддверии надвигающейся неизбежной Второй мировой войны.
На чем прокололись почти все державы в Первой мировой войне? Генеральные штабы и правительства посчитали, что война продлится недолго, и имеющих запасов вооружений хватит на весь период боевых действий. И ошиблись. Пришлось в ходе войны мобилизовывать мощности всей своей промышленности, но произведенного все равно не хватало. Начались массовые закупки оружия и боеприпасов в других странах. Отличным подспорьем стала могучая экономика США. Но не для Германии и Австро-Венгрии. И они войну проиграли. Однако еще раньше рухнула царская Россия, хотя имела возможность закупать оружие в других странах, включая Соединенные Штаты. Какой из этого можно было сделать вывод?
Раз мировая война неизбежна и начнется довольно скоро, то надобно сейчас, немедля запасаться вооружениями. Надеяться на закупки оружия в других государствах СССР не может, да они и не спасут положения. В этом случае 10 тысяч танков, а тем более 20 тысяч – много или нет?
Конечно, много, утверждают критики Тухачевского. Но Тухачевский думал иначе и сумел убедить Сталина в своей точке зрения. И оказался совершенно прав! Много было по отношению к государствам, которые надвигающую мировую войну либо прозевали (Англия, Франция), либо вляпались в нее, не ожидая этого (Германия). А для масштабов Большой войны оказалось в самый раз.
Реальные боевые действия показали, что 10 тысячи танков хватает на несколько месяцев боев. Посмотрим количество производства танков и самоходных артсистем воюющих держав.
Великобритания в 1942 году, ведя пассивные боевые действия, произвела 8 600 танков, Германия – 6 200 (и провалила блицкриг), США – 23 800.
Великобритания в 1943 году произвела 7 500, Германия – 10 700, США – 38 000 танков и САУ.
Германию еще можно обвинить в стремлении к мировому господству, но Англия и США точно защищались, а не хотели завоевывать другие страны, но танков производили с каждым годом все больше. Причина того проста – огромные потери. И 20 тысяч танков у СССР оказалось не такой большой цифрой. В 1942 году в Советском Союзе было произведено – 24 тысячи танков, что не спасло Красную Армию от поражения и отступления до берегов Волги и гор Кавказа.
В 1944 году Германия, которой стало уже не до мирового господства, выпустила 17 тысяч танков и САУ (и вчистую проигрывала войну), Великобритания – 4,6 тысяч (спасибо американцам, взявшим на себя основную долю боев), США – 20 тысяч танков.
Подчеркну: США изготовили 20 тысяч танков за один год, а Красная Армия к началу войны накопила те же 20 тысяч танков, но за десять лет!
В 1943 году Советский Союз выпустил 24 тыс. танков и САУ, в 1944 году – 29 тысяч и стал побеждать Германию.
Вывод: в войне победили те, кто смог производить больше бронетехники – СССР и США. Точно так же обстояло дело с производством самолетов, артиллерийских орудий и пр. Получается, Тухачевский был весьма дальновидным, ратуя за наращивание производства танков и других видов оружия в мирное время. Он предвидел будущие масштабы сражений и понимал, что небольшими силами обойтись совершенно невозможно. А наращивать производство в ходе войны, значит обречь армию и население на большие потери. И понятно, что смогли сделать Соединенные Штаты с их мощной экономикой, не смог бы совершить Советский Союз, если б не подготовился надлежащим образом в мирное время. При этом не обязательно петь дифирамбы гениальности Тухачевского, достаточно посмотреть цифры производства танков в Первую мировую войну. Тогда, а точнее за два последних ее года, Франция произвела 5 тысяч танков, Англия – 2,5 тысячи. А то была заря танкостроения, и сразу такие масштабы производства! Кстати, самолетов Англией и Францией за годы войны было выпущено 100 тысяч против 47 тысяч у Германии. Итог войны закономерен. Так что, предлагая свою программу вооружений, Тухачевский всего лишь следовал логике свершившихся событий, понимая, что масштабы будущей войны будут, как минимум, не меньшими. То будет не просто война моторов, а сотен тысяч моторов, в том числе десятков тысяч танковых. К такой войне он готовился, и такая армия была им с единомышленниками создана. Свидетельством тому были маневры в Белорусском и Киевском военных округах в 1935 и 1936 гг., которые вызвали восхищение у иностранных наблюдателей. Они признали – Красная Армия опережает время! Только Тухачевский не ведал, что его вместе с другими создателями новой Красной Армии расстреляют, а в 1941 году врага встретит не армия, а нечто вроде ополчения, которое не будет в состоянии организовать отпор даже при многократном своем превосходстве в технике не только немцам, но и вообще кому-либо из союзников Германии.
То, что Вермахт вступил во Вторую мировую войну, располагая всего 3,5 тысячами танков, объясняется тем, что Гитлер был уверен – Англия и Франция не вступятся за Польшу, а пойдут привычным мюнхенским курсом. А когда совершенно неожиданно выиграл кампанию с Францией с 3 тысячами легких танков, уверился, что этого тем более хватит для СССР. Авантюризм в отношении Польши и Франции еще более неожиданно «прокатил» летом 1941 года. И впрямь «дуракам» везет, особенно наглым. До поры до времени, конечно. Красная Армия количественно была готова к серьезной войне, залогом чему был пресловутый танкопарк в 20 тысяч машин. Не вина Тухачевского, что это сила была профукана практически без всякого влияния на ход боевых действий. Как такой «подвиг» удался его преемникам, мы рассмотрим дальше.
Другое дело, что попытка повторить «маневр Тухачевского» в 1960-80-е годы, в результате чего в момент распада СССР, в строю находилось около 23 тысячи танков, было уже очевидным перебором. После Карибского кризиса стало ясно, никто идти в ва-банк и развязывать Большую войну не рискнет. При этом противоборство между сверхдержавами продолжалось, но были избраны средства, названные «холодной войной». Английский военный теоретик Лиддел Гарт ввел понятие «стратегия непрямых действий» – такая стратегия и стала определяющей. Вместо лобового столкновения на поле брани в ход пошли иные средства: пропаганда, соревнование в уровне жизни, установление контроля над мировыми рынками, начиная с нефти и кончая рынком капиталов и т.п. Противоборство с новой стратегией руководство СССР проиграло. На этот раз не нашлось теоретика, предложившего правильный вектор действий. Стада танков все это время были неудел. Что было необходимым, или, по крайней мере, логичным в одно время далеко не всегда подходит к другой эпохе.
И еще одно замечание. Тухачевского ругали не только за его стремление иметь много танков, но и задавались ядовитые вопросы: а где он собирается найти столько техников? как обучить такую массу танкистов? подготовить такое количество командиров экипажей? И пр. Удивительно, что эти любительские вопросы первым задал, сопровождая их ядовитыми комментариями по поводу умственных способностей Тухачевского, В. Суворов – сам в прошлом танкист, к тому же окончивший военную академию, то есть долженствующий разбираться в теме. Совершенно не обязательно и даже не нужно на каждый танк иметь отдельный экипаж. Подбитый танк, как и сбитый самолет, еще не означает гибель экипажа. В войну люди спасались из горящего танка или сбитого самолета неоднократно. А потом? А потом пересаживались на другие машины и продолжали воевать. (Рассказывают, что первого аса люфтваффе Э. Хартмана сбивали более десяти раз!) Но для этого нужно, чтобы эти машины были в наличии.
Кроме того, машины имеют свойство ломаться, а после определенного срока службы проходить текущий и капитальный ремонт. И как быть в условиях боевых действий, когда танки нужны позарез?…
В 1970-80-е годы студентов многих военных кафедр водили в парки, где стояли боеспособные, но морально устаревшие танки Т-54/55. Зачем их держали? Это были танки второй линии. В случае войны они могли использоваться в качестве боевых, учебных и специальных машин. Так что Тухачевский и в этом пункте был умнее и дальновиднее своих критиков.
Ну а что сам Сталин? В 1931 г. он произнес знаменитую формулу: «Мы отстали от капиталистических стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Заявление, согласитесь, далекое от агрессивности. Речь шла о выживании, а не о перспективах захвата Европы. В 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию и вышла к границам СССР на участке в полторы тысячи километров. На Западе Советский Союз никто не жаловал. О нарастающей угрозе фашизма писали много и открыто. Точно так же как и о перспективах новой Большой войны. В этой ситуации мечтать о захвате Европы, а тем более мира было чистой воды глупостью. Зато готовиться к войне, а в случае победы воспользоваться ее плодами, можно было и нужно. Это нормальная позиция любого государства с глубокой древности и до наших дней. Именно об этом толковал Тухачевский и именно это имел в виду Сталин, говоря о 10-ти имеющихся в распоряжении страны (перед Большой войной) годах.
Оружия стали делать много, и тем более непонятно появление книг с перечнем того, чего не хватало Красной Армии. Получается, что у Вермахта всего было в достатке, а германские танковые дивизии выигрывали все бои, преодолевали любые препятствия, потому что были оснащены лучше советских. Но что имел Вермахт в действительности?
Половина танковых войск Вермахта составляли легкие танки со скромным вооружением. Вот отзыв танкиста:
«Всех нас наполняла гордость, когда мы получили свой чехословацкий танк 38(t)… Мы восхищались броней, не понимая еще, что она для нас лишь моральная защита. При необходимости она могла оградить лишь от пуль, выпущенных из стрелкового оружия» (23. Крокиус, с.5).
«Мы проклинали хрупкую и негибкую чешскую сталь, которая не стала препятствием для русской противотанковой 45-мм пушки. Обломки наших собственных броневых листов и крепежные болты нанесли больше повреждений, чем… сам снаряд» (23. Крокиус, с.6).
И ничего, с этими машинами танковые группы Гёпнера и Гота, в которых находилось наибольшее количество чешских танков, дошли до Ленинграда и Москвы.
Написано огромное количество текстов, сравнивающих немецкую технику с советской кануна войны. Толщину брони: лобовой и боковой, мощность двигателей и калибр вооружения – у танков. Скорость: крейсерскую и максимальную, набираемую высоту, время разгона и вооружение – у самолетов. Калибры стволов и вес взрывчатого вещества – у снарядов артиллерийских орудий. Споры шли жаркие и, возможно, будут продолжаться. Единственно, на что мало обращают внимание спорящиеся – это то, что германская сторона выигрывала в 1941 году все бои, не взирая, какую технику имела та или иная танковая дивизия или авиаэскадра, а Красная Армия, наоборот, терпела поражение практически в любой ситуации с любым набором техники. Немногие исключения общую картину не меняли. Побеждала не техника как таковая, а умение воевать. Такие слова уже банальность, но от этого они не перестают быть истиной.
Умели ли воевать репрессированные?
Другой часто встречающейся упрек: Тухачевский пошел по легкому пути, выторговав кучу «железа», а учиться воевать забыл, вот Сталину и пришлось расстрелять нерадивых. Правда, существуют высокие оценки проведенных в канун «чисток» войсковых маневров 1935 и 1936 годах в Белорусском и Киевском военных округах, возглавляемых будущими «врагами народа», поэтому, чтобы версия про неумеющих воевать расстрелянных получила необходимый вес, необходимо было дискредитировать значение этих маневров. И работа закипела. В качестве главного доказательства чаще всего приводится отчет о маневрах независимого наблюдателя – начальника управления боевой подготовки РККА командарма 2-го ранга А.И. Седякина.
Седякин никому дифирамбов не пел, а совсем даже наоборот – погладил против шерстки. Седякин отмечал в маневрах:
а) плохое взаимодействие авиации и механизированных частей;
б) недостаточно четкое взаимодействие артиллерии с танками;
в) плохую разведку, в результате чего некоторые механизированные бригады наносили удар по пустому месту;
г) 5-я и 21-я мехбригады Белорусского ВО не смогли обнаружить засады и были условно разгромлены, а 1-я мехбригада внезапно очутилась перед танковыми ловушками и заграждениями и вынуждена была остановиться;
д) подготовка водителей танков недостаточна, что приводит к «рассеиванию» – слому боевых порядков во время марша и атаки;
ж) части вводились в бой несогласованно;
з) пехота шла в атаку «густыми толпами» и несла большие потери от огня условного противника;
и) меткость стрельбы пулеметчиков была низкой.
Ну и так далее, пункт за пунктом, половина алфавита. Ага, радуются критики, вот она – подготовочка «полководцев с гражданской»! Остается только вздыхать над такими радостями. Это называется, глаза читают – мозг отдыхает. А ведь, казалось бы, все отчетливо ясно…
Во-первых, ясно, что маневры были не показушными, что говорится «без дураков». Войска были поставлены в условия максимально приближенными к боевым. И сделать такие условия весьма непросто, что свидетельствует не только о честности организаторов маневров, но и о высоком уровне разработчиков учений.
Во-вторых, отображенные недостатки в отчете один в один воспроизводили ошибки и накладки 1941 года, что делает честь оперативному уму командарма Седякина и его подчиненных, работавших наблюдателями на маневрах.
В-третьих, маневры проводятся не для того, чтобы получить благодарность начальства за образцовую показуху, а выявить недостатки в организации войск и пробелы в подготовке личного состава. Они и были выявлены – полно и четко.
В-четвертых, перечисленные недочеты давали ясную картину того, над чем надлежало работать командному составу в ближайшие годы. И если бы такая работа была проведена, события летом 1941 года пошли совсем по иному руслу.
В-пятых, кто так ловко организовал оборону (танковые засады, противотанковые препятствия)? Кто разгромил 5-ю и 21-ю мехбригады условного противника (по штатам каждая бригада имела около 200 танков – это полноценная германская дивизия)? Советские командиры и разгромили. Значит, в 1935-36 годах в Красной Армии были офицеры, знавшие как бороться с танковыми прорывами. Отсюда следующий вопрос: а куда подевалось это умение в 1941 году?
Ответ очевиден: тех, кто умел готовить маневры; тех, кто умел делать выводы из недочетов; тех, кто умел бороться с танками противника; тех, кто мог на основе опыта маневров подготовить армию к современной войне, безжалостно истребили. Погиб, кстати, и Седякин.
Зато после 1937 года началась лепота. Полководцы сталинского набора образцово проводили учения.
«Весной 1941 года прошли знаменитые учения войск Белорусского Особого военного округа под руководством С. К. Тимошенко. Мне довелось заниматься на них увязкой взаимодействия нашего корпуса с 6-м механизированным корпусом генерал-майора М.Г. Хацкилевича. Это соединение, укомплектованное танками KB и Т-34, показало себя с лучшей стороны. При разборе учений нарком высоко отозвался о слаженном взаимодействии танков и пехоты» (15. Иванов, с.38-39).
И куда, спрашивается, делась эта слаженность через два месяца? В самом начале войны 6-й мехкорпус будет наголову разбит всего за три дня боев, ни причинив ущерба германским войскам! Ну и что? Зато начальство удалось порадовать липовыми показателями в боевой и политической подготовке. А это, в отличие от мнения всяких там Седякиных, главное…
Г.К. Жукову в мемуарах оставалось констатировать: «Не соответствовал требованиям современной войны в ряде случаев и метод обучения войск. Принимая участие во многих полевых учениях, на маневрах и оперативно-стратегических играх, я не помню случая, чтобы наступающая сторона ставилась в тяжелые условия и не достигала бы поставленной цели. Когда же по ходу действия наступление не выполняло своей задачи, руководство учением обычно прибегало к искусственным мерам, облегчающим выполнение задачи наступающей стороны».
В итоге, к лету 1941 года Красная Армия превратилась в организм, не имеющий понятия, как воевать по-настоящему.
Тухачевский и «самая наступательная армия»
Тухачевский ратовал не просто за наступление. Как военный он прекрасно понимал ценность обороны и то, что лозунгом «ура, вперед!» войны не выигрываются. Он хотел создать «наступательную систему». Что это такое? Первым ее создала и испытала Германия в 1939-41 годах. Вермахт с удивительной и кажущейся легкостью, щелчком, сметал армию за армией. Успехами были поражены даже сами немецкие генералы. Но Тухачевский с Уборевичем и другими единомышленниками вели к этому Красную Армию осознанно, о чем писалось еще в 20-е годы. Откуда взялись поздние слова про «самую наступательную из наступательных армий», над которыми ныне принято либо насмехаться, либо приводить в качестве примера тупой агрессивности? Это призыв Тухачевского в период, когда Вермахта еще не было в проекте. Вермахт потом стал «самой наступательной из наступательных армий», но теорию такой военной силы первыми разработали именно Тухачевский с другими советскими теоретиками блицкрига. Он еще в 1920-е годы, когда СССР представлял собой полуаграрную, разоренную страну, ратовал за моторизацию армии и создание особо маневренной и пробивной силы. Как эта теория выглядела на практике и продемонстрировал Вермахт.
До сих историки удивляются тому, с какой легкостью не имеющие превосходства в вооружениях германские войска опрокинули англо-французскую, а попутно бельгийскую и голландскую армии. Причины ищут в неожиданном прорыве через Арденны, в создании танковых групп и т.п. Да, все так, но главное было в том, что Вермахт изначально создавался как «наступательная система», что позволило в самых неблагоприятных условиях захватить Норвегию и Крит без танков, пикировщиков и «Арденн». То есть во главу угла ставилось не просто наступление, как вид боевых действий, а формирование системы во всех ее компонентах, начиная от оружия и родов войск до культивирования в солдатах и офицерах наступательного духа. Каждый фельдфебель знал: обороной войны не выигрываются, а значит, надо готовить свое подразделение к тому, что приносит победу – атаке. На это была нацелена вся подготовка войск от рядового до штабов. Вот о чем толковал Тухачевский, говоря «о самой наступательной армии». Так оно в жизни и получилось. Германская и японская армии достигли больших успехов, но как только они перешли к стратегической обороне, начался закат их вооруженных сил. Точно также, как только Красная Армия обрела изначально культивируемый наступательный дух, и в дело вступили приготавливаемые с начала 30-х годов средства наступления, так оглушительные поражение обернулись громкими победами. И это касается не только великих держав. За счет чего выстояла Финляндия? За счет обороны? Мощные укрепление на Карельском перешейке были прорваны за три месяца, несмотря на тяжелейшие для атаковавших красноармейцев зимние условия. Зато финская армия прекрасно показала себя в наступлении, как в 1940, так и в 1941 годах. Этот задел позволил ей отстоять свою независимость.
Возможности «наступательной системы» относятся не только к армии, но и к государству в целом. Англия и Франция в 1930-е годы по отношению к Германии заняли оборонительную позицию, и вчистую проиграли Гитлеру политическую борьбу. Военная победа Германии стала лишь завершающим аккордом. Англию от окончательного разгрома спасла не ее армия, а пролив Ла-Манш.
Почему активная политика СССР в 1939-40 годы, принесшая ей большие успехи, вызывает столь острое неприятие у критиков? Ведь, казалось бы, прошло более семи десятилетий, а обличения столь эмоциональны, будто речь идет о вчерашних событиях? Потому что, обличая Советский Союз, тогдашнюю политику Кремля, метят в современную Россию. На примере «агрессивного Советского Союза» внушаются прелести пассивно-оборонительного существования. Ведь существует (точнее существовала) вероятность объединения с Белорусью, Приднестровской республикой, Абхазией, Южной Осетией… Далее везде? Страшно! Как тут не вспомнить события 1939-40 гг.? Идеал же – лениво раскинувшаяся на евразийских просторах, по пенсионному доживающая свой исторический срок Россия. Потому такое яростное неприятие вызывает фигура Тухачевского – «самого наступательного из наступательных» военачальников Красной Армии.