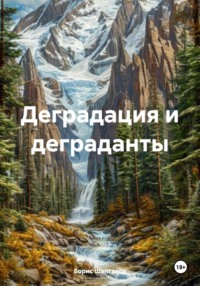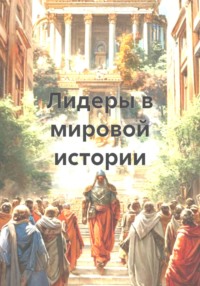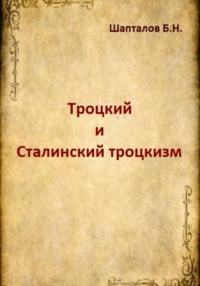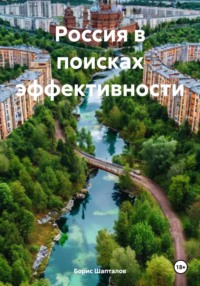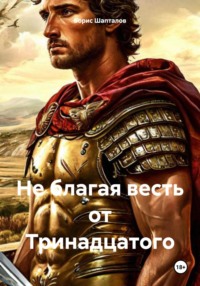Полная версия
Кто подставил Красную Армию
Глава I. Австро-Венгрия в начале ХХ столетия. Глава II. Австро-венгерские армия и флот в начале ХХ столетия. Глава III. Генеральный штаб Австро-венгерской армии. Глава IV. Начальник Генерального штаба Конрад… Глава VII. Австро-венгерский Генеральный штаб в лицах…
Лишь отдельные главы могут сойти за теоретические, вроде «Глава VI. Думы о начальнике Генерального штаба». Да и то, если ее не читать, а довериться названию («Думы…»!)
В целом, как видно из названия глав, книга представляет собой исторический обзор деятельности австрийского Генерального штаба и теоретические изыски не выходят за рамки осмысления его опыта. Тухачевский, как военный мыслитель, на этом фоне выглядит намного продуктивней.
Но главное то, что умозаключения военачальников и военных теоретиков появились как итог осмысления бескомпромиссной мировой войны 1914-1918 гг., в которой воюющие стороны ставили цели полного разгрома противника без щадящего мирного договора после первых успехов, как это часто было в прошлом. Тухачевский обобщил эти мысли и предложил их реализацию в виде плана. Ведь главное не теоретизирование, а конкретные выводы. Ни Шапошников, ни другие провидцы конкретный план подготовки к надвигающейся Большой войне не представили. Были лишь общие рассуждение, подобно вышеприведенной цитате. Но это все равно, что призвать спортсмена «напрячь все силы перед будущими соревнованиями». Совет хороший, но он чего-нибудь стоит, если предложена методика тренировок. А кричать: «Давай, ребята!» – все умеют. Лишь Тухачевский осмелился разработать конкретный план подготовки к войне. Он был настолько радикальным, что Ворошилов был ошарашен и долго держал его у себя. Но Тухачевский проявил настойчивость, и в марте 1930 г. нарком обороны передал его записку Сталину, что естественно, – такого уровня вопросы, как мобилизация всего народного хозяйства, он не решал.
Поначалу, что не удивительно, Сталин отнесся к предложению Тухачевского отрицательно. «Я думаю, что «план» т. Тухачевского является результатом модного увлечения «левой» фразой…», – писал он 23 апреля Ворошилову. – «Осуществить» такой план – значит наверняка загубить и хозяйство страны, и армию». Однако, поразмыслив, Сталин полностью изменил свое мнение. 7 мая 1932 г. Сталин письменно извинился перед Тухачевским: «В своем письме на имя т. Ворошилова, как известно, я… высказался о Вашей «записке» резко отрицательно, признав ее плодом «канцелярского максимализма», «результатом игры в цифры» и т.д. Так было дело два года назад. Ныне, спустя два года, когда некоторые неясные вопросы стали для меня более ясными, я должен признать, что моя оценка была слишком резкой, а выводы моего письма – не во всем правильными…» (45. Цит.: Самуэльсон, с.163).
Показательно, что если Сталину понадобилось два года, чтобы оценить идеи Тухачевского, то многие критики Тухачевского не могут понять его до сих. Ну да теперь спешить уже некуда…
План был принят в полном объеме. Советские заводы стали выполнять двойную задачу: работать на военное и гражданское производства одновременно, как ставшие затем знаменитыми паровозостроительный завод в Харькове или вагоностроительный в Свердловске. Таким образом, многие предприятия изначально находились в полумобилизованном положении и коренной перестройки своей работы с началом войны не требовали. До сих пор этот курс вызывает, мягко говоря, непонимание у современных историков и публицистов. Тухачевского обвиняют в авантюризме, милитаризме и даже глупости. Потому подробнее присмотримся к тому, из чего исходил Тухачевский в своих предложениях.
Прежние войны носили характер локальных конфликтов. Русско-японская война, балканские войны 1912-13 гг. и др., велись по простому принципу: началась война – экономика получает военные заказы. Война кончилась – заказы свертываются. В Первой мировой войне такая практика оказалась порочной. Армии воюющих держав в считанные месяцы истощили запасы мирного времени: снаряды, патроны, винтовки. Для русской армии это обернулось большими поражениями и огромными жертвами – промышленность подвела. Стало ясно: войны в ХХ веке стали чрезвычайно затратными. Времена, когда война обходилась той армией, что существовала в мирное время, пусть и с пополнениями, миновали. Кадровая армия быстро растворялась в море мобилизованных, и для них требовалось огромное количество оружия. Прежде всего из-за недостаточной обученности личного состава потери оружия и расход боеприпасов были, так сказать, сверхнормативными. И с этим ничего нельзя было поделать, хотя государство старалось в мирное время всеми способами обучать потенциальных резервистов. Но тиры, учения гражданской обороны, курсы военной подготовки в школах и вузах, аэроклубы и прочая, все равно не могли подготовить настоящих солдат, техников, летчиков и танкистов. Поэтому Тухачевский предложил не ждать повторения прежней ситуации, а всемерно подготовиться к войне в мирное время. То есть, не раскачиваться в первый военный год, чтобы сравняться с силами противника во второй, дабы на третий год перейти в решительное наступление, как это произошло во Второй мировой войне не только с СССР, но и с Англией и Соединенными Штатами, а ударить всей возможной мощью в первый же месяц войны и не уменьшать напор в последующие из-за нехватки сил. Это, по мнению Тухачевского, значительно сократило бы сроки военных действий и сохранило бы множество жизней.
Казалось бы, ясная концепция, однако, судя по нынешним книгам, ее не понимают 90 процентов исследователей. Отсюда обвинения Тухачевского в авантюризме и легкомыслии. Однако даже после гибели Тухачевского Сталин и командование РККА продолжало придерживаться «авантюристического» курса. Вот выписка из протокола заседания Главного Военного Совета Красной Армии от 10 апреля 1938 года. присутствовали Ворошилов (председательствующий), Сталин, Шапошников, Буденный и т.д.. Постановили:
«4. …заявку на танки сократить с 28 327 до 20 000» (Главный Военный Совет РККА, 13 марта 1938 г. – 20 июня 1941 г. Документы и материалы. – М.: РОССПЭН, 2004. С.35).
20 тысяч танков в год! Да это же «тухачевская» заявка!
Если бы у глобальной войны не было перспектив, как в 1960-80-е годы, то безудержная гонка вооружений не имела бы смысла, но если существует уверенность, что Большая война начнется через 8-10 лет, то чего тянуть резину?
Пока государство разворачивалась лицом к будущей, уже скорой тотальной войне, Тухачевский со своими единомышленниками делал следующий шаг – разработал новую концепцию войны, «стратегию сокрушающего удара».
В работе «Вопросы высшего командования», изданной в 1924 году, Тухачевский сформулировал задачу: «Не на героизм войск надо рассчитывать. Стратегия должна обеспечить тактике легко выполнимые задачи. Это достигается в первую очередь сосредоточением к месту главного удара во много раз превосходных над противником сил… Должен быть создан всесокрушающий таран» (54. Тухачевский, т.1, с.186).
Так в 1939-41 годах немцы и воевали.
Первой всесторонней теоретической разработкой, ставшей основой теории блицкрига или «глубоких операций», стала вышедшая в 1929 году книга В. Триандафиллова «Характер операций современных армий». Любопытна перекличка анализа Триандафиллова с идеями Тухачевского.
Триандофиллов писал: «…рассуждая абстрактно, при обороне легче достигнуть устойчивого фронта, чем раньше. Но беда обороны заключается в том, что она всегда ограничена в средствах, что она ведется заведомо малыми силами и потому не всегда может дать ту плотность фронта, которая обеспечила бы достаточную сопротивляемость боевых порядков». Так во Второй мировой войне и случилось. Как ни хорошо сопротивлялись обороняющие, победа была за имеющими возможность наступать.
«Было бы непоправимой ошибкой из-за возникающих в связи с развитием военной техники трудностей в ведении глубоких (наступательных) операций впадать в своего рода "оперативный оппортунизм", отрицающий активные и глубокие удары и проповедующий тактику отсиживания, нанесения ударов накоротке – действия, характеризуемые модным словом "измор"», – бросил камешек в огород А. Свечина автор.
Сторонники обороны не поняли главного: по сравнению с Первой мировой войной, где средства обороны превзошли средства нападения, ситуация изменилась кардинальным образом. Быстрое развитие техники вновь дало преимущество средствам нападения. Это стало ясно уже в 1918 года после успешного применения танков. Вторая мировая война подтвердила выводы Тухачевского и Гудериана, делавших ставку на новые рода войск – танки и авиацию. Попытки Вермахта в 1943-45 гг. создать прочную позиционную оборону в духе Первой мировой войны («Восточный вал», «Атлантический вал», «линия Зигфрида», «линия Густава» и т.д.) успеха не принесли. Не помог ни опыт, ни стойкость немецкого солдата, ни широкие реки: Днепр, Висла, Сена, Дунай, ни бетонные сооружения в укрепрайонах Восточной Пруссии и левого берега Рейна. Также оказалась безуспешной оборонительная стратегия Японии на островах в Тихом океане. Обескровить американские войска не удалось. Более того, в продуманных наступательных операциях относительно редко соблюдался известный принцип, когда нападающие несут потери примерно три человека к одному обороняющемуся. Лишь в тех случаях, когда хромало оперативное искусство, нападающие несли по-настоящему тяжелые потери в личном составе.
Квинтэссенцией проделанной теоретиками работы стал Полевой Устав РККА 1939 года. В нем в частности было сказано: «Если враг навяжет нам войну, Рабоче-крестьянская Красная Армия будет самой нападающее из всех когда-либо нападавших армий. Войну мы будет вести наступательно, перенося ее на территорию противника» (ПУ РККА. М.: Воениздат, 1939, с.9).
Не самое удачное для военного документа выражение «будет самой нападающей из всех… армий» сейчас воспринимается как сугубо агрессивная риторика. Так ныне в России не говорят, потому что страна находится в глубокой обороне. Предел мечтаний – создание условий для привлечения иностранных инвестиций, чтоб с помощью гастербайтеров как можно больше сделали за нас. Ну и, конечно, чтоб цена на нефть не упала. А в то время молодое государство ощущало в себе избыточность сил, переживало мощный энергетический подъем и было готово принять вызов от любого противника. И известная фраза «кто с мечом к нам придет от меча и погибнет» стала восприниматься иначе: «кто с мечом к нам придет, тот от нашего меча в своем логове и погибнет». То есть, если Александр Невский довольствовался победой на границе Новгородских земель, то теперь стояла задача закончить войну там, откуда исходил приказ о нападении на СССР. И ничего в такой постановке нового не было. Так себя вели армии других великих держав. Так ведут и поныне. После атаки 11 сентября 2003 года американская армия незамедлительно нанесла ответный удар, хотя штаб террористов, по версии Вашингтона, находился в далеком Афганистане.
Таким образом, уже будучи в безымянной могиле, Тухачевский продолжал оказывать влияние на Красную Армию, и не только в виде лозунговых положений военного Устава. Когда составлялся план удара по германской армии в 1940 году, то в основу легло «авантюрное» наступление Западного фронта под командованием Тухачевского в 1920 году. Его войска двигались по тому же принципу, что германские в августе 1914 года по плану Шлиффена – в виде «серпа». Неприятель оказывался внутри полукружья, не успевая реагировать на движение наступающей армии.
Идея «серпа» также была заложена в «Соображениях о стратегическом развертывании вооруженных сил», представленных руководству страны осенью 1940 года. Только прежний удар с севера был перенесен на юг Польши с поворотом на север. Особенно четко это видно в проекте превентивного удар по Вермахту Жукова-Тимошенко от 15 мая 1941 года. Первый удар предлагалось нанести вдоль Карпат на Катовице-Краков. «Последующей стратегической целью иметь: наступлением из района Катовице в северном или северо-западном направлении разгромить крупные силы Центра и Северного крыла германского фронта и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии».
Эффект от южного удара мог получиться грандиозным в том случае, если дать немецким войскам продвинуться вглубь в Белоруссии и Литвы. Тогда прорыв через южную Польшу с поворотом к Балтийскому морю отрезал бы группы армий «Север» и «Центр» от Германии. Получался охват масштабнее, чем по плану Шлиффена или наступления в Арденнах в 1940 году. Но такой маневр требовал наличия по-настоящему мощных танковых и моторизованных сил. В период составления плана Генштабом в 1940 году соединений, способных совершить столь сложный маневр, у Красной Армии не было. Мехкорпуса были расформированы в 1939 году. В итоге по варианту 1940 году получалась серединка на половинку: удар через южную Польшу повисал в воздухе, и что в такой ситуации делать дальше было совершенно не понятно. И тогда разработчики плана придумали удивительное объяснение: мол, эффектом от такого маневра является отсечение Германии… от Балкан!
Объяснение имело такой успех у историков, что оно неустанно повторяется до сих. При этом никто не объясняет, каким образом можно отрезать Румынию, Болгарию, Турцию от Германии через южную Польшу? С чего это вдруг румынская нефть должна была экспортироваться в рейх не через Венгрию (кратчайший маршрут), а через Словакию и Польшу? И каким образом румынская армия могла взаимодействовать с германской через Словакию? В 1915 году русские войска пытались прорваться в Венгрию через словацкие Карпаты – безуспешно. В 1944-45 гг. Красная Армия несколько месяцев штурмовала горы вторично, и опять без особого успеха. Братиславу пришлось освобождать через территорию Венгрии, а Прагу – через Германию. Нет, Карпаты и Татры – были слишком серьезными препятствиями хоть для взаимодействия войск, хоть для экономических связей Балкан с Германией. Зато в мае 1941 года средства для таранного удара в распоряжении Жукова уже были – механизированные корпуса (танковые армии) были воссозданы вновь. Так что Жуков мог довести удар через южную Польшу до логического конца, без байки про «отрезанные Балканы».
План, что предложили Мерецков-Тимошенко-Жуков был универсальным, он подходил как для превентивного удара по неизготовившемуся противнику, так и в качестве контрнаступления против прорвавшегося на территорию СССР врага.
Итак, видно, что Тухачевский, как и Триандафиллов, ничего не изобретали с нуля, не выдумывали на чистом листе бумаге. За их разработками и предложениями стоял как недавний военный опыт, так и традиции вполне определенной военной доктрины, прежде всего немецкой.
Что сближало видение группы Тухачевского с германской военной школой?
Во главу угла в обеих армиях был поставлен маневр. Встретив сопротивление противника, немецкие командиры без промедления смещали ударные соединения влево или вправо от узла обороны. Расчет был прост: оборона противника вряд ли была крепкой на большом протяжении. Где-то оборонительные порядки становились жиже настолько, что позволяли прорвать их. Вот это место и начинали искать.
У немцев споров, как вести будущую войну, не было – только маневр, только блицкриг! Все прекрасно помнили ужасы позиционной войны в Первой мировой войне, и всю «сладость» войны на измор, завершившуюся революцией. В то же время, они знали примеры блистательного успеха маневренных действий и «скоротечных войн» 1866 и 1870 гг. Так что выбора не было. Оставалось лишь разработать новый, с учетом времени, арсенал блицкрига. Обычно решение этой задачи связывают с Гудерианом, выпустившего книгу «Танки, вперед!», где он изложил принципы ведения боевых действий с применением нового рода войск. Но помимо теории многое дала практика. Участие в гражданской войне в Испании позволило прийти к мысли о целесообразности непосредственной поддержки наступающей пехоты самолетами, для чего потребовалось создать новый вид авиации – штурмовой. Было сконструировано несколько типов штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков, наиболее удачным и знаменитым из которых стал «Юнкерс-87». Сочетание танков, моторизованной пехоты и пикирующей авиации оказалось эффективнейшим средством взламывания обороны противника на оперативную глубину.
Точно по такому же пути пошло развитие и Красной Армии. Только танки были мощнее и числом поболее, причем в разы. Правда, эффективное средство авиационной поддержки пехоты было создано лишь в 1940 году. Это штурмовик Ил-2, также затем ставший знаменитым.
Немецкие теоретики, а затем практики стали ориентироваться на весьма специфический вид наступательных операций. Называть его «маневренным», значит, уравнять с привычными, давно известными способами вождения войск. В Вермахте было внедрено особое сочетание маневра и наступления, которое можно было бы окрестить по аналогии с блицкригом (молниеносной войной) «молниеносной операцией».
Танковые войска наносили удары быстрые как молния. Отразить их было чрезвычайно трудно, потому что они наносились: а) внезапно; б) стремительно; в) сокрушающе. Пока штабы и войска противника осмысливали, с какими намерениями и какими силами прорвались танки немцев, все было кончено – войска окружены, управление нарушено, паника подобно лесному пожару распространялась среди солдат и гражданского населения. Оставалось одно: пытаться вырваться из «котла», а верховному командованию начать работу по организации обороны на новых рубежах. Именно такой вид наступления готовили теоретики и практики Красной Армии «тухачевского периода». У них не получилось по простой причине: их расстреляли задолго до начала войны. Это все равно, если бы Гитлер расстрелял Гудериана, Манштейна, Клейста, а потом сказал: «Теперь – вперед!»
Кроме того, существовало серьезное различие в понимании сущности блицкрига. Германские генералы и Гитлер делали ставку на блицкриг, и все! Что будет, если возникнет необходимость продолжать войну кампания за кампанией? Такой вариант германская военная мысль не рассматривала. Тухачевский же был уверен, что одним блицкригом коалиционную (мировую тем более) войну не выиграешь. Нужно подготовиться к тотальной войне, в которой блицкриг – составная ее часть, экономящая время и жизни. Но в самой войне победа достанется тому, кто способен мобилизовать все свои силы. Гитлер этого не понял и закончил свою карьеру в подвале рейхсканцелярии под грохот орудий полностью готовой к тотальной войне Красной Армии.
Новые плодотворные мысли в любой сфере деятельности не часты и дорогого стоят. В военном деле особенно. Все-таки на кону человеческие жизни и судьба государства. Пример. Серьезной проблемой Первой мировой войны стали пулеметы. Наступать привыкли плотными массами. Так повелось со времен древнегреческой фаланги. С появлением скорострельных винтовок боевые порядки несколько разрядили, в атаку стали ходить цепями. Но пулеметы их косили, как косцы траву. В фильме «Чапаев» наглядно показано, как одна пулеметчица – слабая женщина скашивает сотни здоровых мужчин. Вроде бы, надо было менять тактику, но новое почему-то не придумывалось. Так и ходили в наступление густыми массами до конца войны. Потери были ужасающими. И даже в начале Второй мировой, во всяком случае, в Красной Армии в атаку продолжали ходить цепями, хотя количество и качество пулеметов только возросло. Лишь постепенно удалось выработать новые принципы хождения в атаку, в том числе, под защитой танков. Так и с идеями Тухачевского. Это только кажется, что придуманное им несложно, мол, «каждый сможет». Когда идея выкристаллизовалась, мысль доведена до практического осуществления, тогда, конечно, все становится просто и всем понятно.
Концепция преодоления позиционной обороны, на которую в Первой мировой угробили миллионы солдат, разработка им инструмента прорыва – танково-механизированных соединений – фигурально выражаясь, весила многие тонны золота. И Вермахт значимость этой идеи доказал на практике. В кампаниях 1939-41 годов потери немцев были едва ли ни символическими, а результаты – стратегическими. Наверное, поэтому фигура Тухачевского вызывает восхищение у одних и ненависть у других (на месте Вермахта могла оказаться Красная Армия).
Кругом виноватый Тухачевский
Сталин уничтожил Тухачевского не только физически, но и морально, превратив в шпиона и вредителя. Но этот ход понятен, удивительно то, что работа по дискредитации Тухачевского была возобновлена в постсоветские годы. С легкой руки вездесущего В. Суворова Тухачевский превратился чуть ли ни в карикатурную фигуру. Выставлять Тухачевского глупцом стало почти «хорошим тоном». Можно сказать, что Тухачевского разоблачили вторично. Вот небольшая коллекция наскоков, собранная мной со страниц разных книг.
«Кстати, как-то вне внимания историков остается тот факт, что именно Тухачевский в советско-польской войне 1920 года допустил грубую оперативную ошибку, организовав наступление своего Западного фронта в расходящихся направлениях. Результатом той ошибки стало тяжелейшее поражение в войне…» (6. Веремеев, с.98).
На этом доказательная часть исчерпывается. Автор перешел к другому сюжету, а жаль. Во-первых, это неправда. Западный фронт наступал в «сходящихся направлениях». Зато соседний Юго-Западный фронт и вправду выбрал «расходящийся» вариант. И надо бы рассказать по чьей вине войска это произошло (отнюдь не Тухачевского).
Во-первых, польский поход с «прошупыванием Польши штыком» был ответной мерой на прощупывание войсками Пилсудского Советской России. В мае 1920 года ими были захвачены Минск и Киев. Предполагалось, что Петлюра создаст полностью зависимое от Варшавы украинское полугосударство, и вместе будет воссоздана новая Речь Посполитая от моря до моря (от Балтийского до Черного). Если Пилсудский ставил «глобальные» цели, то почему большевики должны были уклониться от боя? Ведь в случае победы они выходили за охваченную революционным движением Германию…
Однако (и это во-вторых) поход 1920 года – вообще тема для бесконечных язвительных замечаний, прерываемых хохотом: а Тухачевский-то дурак, захотел социализм на штыках принести в Польшу! Ничего не понимаю. Сейчас многое что меняется. То объявляют, что Иван Грозный и Батый – одно и то же историческое лицо, то фараонов не было, а была сплошная Русь-Азия и прочее. Может, и в написании истории ХХ века что-то кардинально изменилось? Беру свежий вузовский учебник «Новейшая история», листаю, дохожу до раздела о Польше, читаю: коммунисты пришли к власти в 1948 году. Так в чем проблема? В 1920 году было рано, а в 1948 году – в самый раз? Это почти одно и то же поколение. Неужто за это время поляки кардинально изменили свои политические воззрения? Точно так же социализм утвердился во многих других странах, где он «проклевывался» и раньше – в восточной части Германии, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии… Лишь с помощью англичан удалось подавить движение коммунистов в Греции, а с помощью американцев с их планом Маршалла – изгнать коммунистов из власти во Франции и Италии.
А может, и вправду в 1920 году было рано, а Тухачевский сие, в отличие от нас, здорово поумневших, не уразумел? Опять листаю учебник истории. Вот описывается победа социалистической революции в Венгрии в 1919 году, а вот – победа коммунистов в Словакии, а вот – движение левых в Чехии, бои в Вене, восстание в Мюнхене («Баварская советская республика»)… На грани гражданской воны находилась Италия (проблему решили путем передачи власти Муссолини в 1922 году)… Нет, ничего не изменилось. Знал Тухачевский, что делал: Европа после Первой мировой войны была на перепутье, каковой она оказалась вновь после Второй мировой. Но тогда не получилось, а в 1940-е – вышло. И присутствие Красной Армии стало решающей гирей на весах истории, точно так же, как наличие американских и английских войск повлияло на поражение коммунистов в Западной Европе и Греции (а затем в Корее, в южном Вьетнаме в те же 40-е годы…). В 1934 году в фельетоне «Старый газетчик» Хемингуэй писал: «Непосредственно после войны мир (имеются в виду европейские страны – Э. С.) был гораздо ближе к революции, чем теперь. В те дни мы, верившие в нее, ждали ее с часу на час, призывали ее, возлагали на нее надежды – потому что она была логическим выводом. Но где бы она ни вспыхивала, ее подавляли».
Остается посоветовать критикам для общего понимания исторической обстановки читать обзорные книги, хотя бы учебники.
Что же касается возгласов несказанного удивления: «А вы знаете, что большевики хотели экспорта революции!», отвечу: «Да, конечно». Этот факт распространен в мировой истории. И не только потому, что на своих штыках несли новые порядки войска французской революции 1790-х годов. Экспорту идеологии (а революция лишь один из инструментов ее распространения) около полутора тысяч лет. В Европе и на Ближнем Востоке родоначальниками экспорта идеологии стали христиане и мусульмане. Причем относительно христиан речь идет не только о крестоносцах, но обо всей практике распространения новой идеологии в Америке, Африке, бассейне Тихого океана. Кому-то, возможно, не нравится такой экспорт, но католической церкви в Латинской Америке или мусульманам Африки, Ближнего Востока, Западной Индии (Пакистан) – все равно. Никто извиняться за то, что новая религия и культура в Америке, Азии или Австралии внедрялась с помощью меча, не будет. И сейчас есть государство, которое занимается политическим и идеологическим экспортом (США). И на этом государстве подобный экспорт не закончится. Для этого надо, чтобы умерла идеология как таковая, что в обозримом будущем не предвидится. И если исламский полумесяц на куполе святой Софии в бывшем Константинополе – это следствие успешного экспорта религии, то не надо думать, что подобное больше не повторится. Поэтому, когда мы сталкиваемся с экспортом идеологии, политических порядков, экономических механизмов, образа жизни, культуры, то не надо по-детски делать большие круглые глаза, а следует эти процессы изучать, как проявление пассионарной силы и предпосылок к формированию вариантов будущего. Тем более что наша массовая культура, избирательная система, и так далее вплоть до Интернета с его социальными сетями – это тоже следствие культурно-идеологического экспорта. И даже те, кто на словах не приемлет экспорта идеологии – антиглобалисты, радетели национальной самобытности – вдруг объявляют, что их самобытность в виде евразийства, негритюда, славянофильства, тюркизма и т.д. тоже далеко выходит за рамки одного народа и они также претендуют если не на роль мировой, то региональной идеологии. И в этом не их вина, а следствие давно сложившегося интернационализма мировых связей – этнических, экономических, культурных, религиозных, политических.