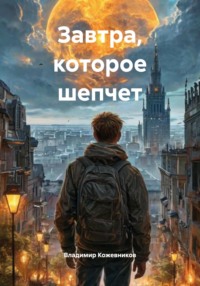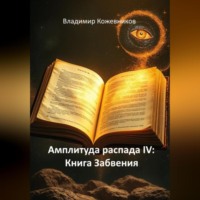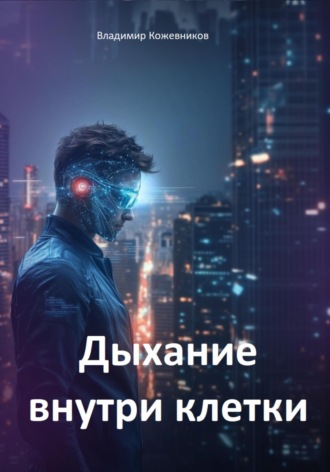
Полная версия
Дыхание внутри клетки

Владимир Кожевников
Дыхание внутри клетки
Посвящается памяти Мальцевой Марфы Моисеевны, моей прабабушки 1885 года рождения
Пролог: Туман над институтом
Утро над Научным Институтом «Биофронт» выдалось не просто серым, а каким-то вымытым, акварельным, лишенным ярких красок. С небес неторопливо сыпалась не просто изморось, а мельчайшая водяная пыль, превращавшая мир в размытый снимок. Она оседала на стёклах высоких витражей главного корпуса, затягивая их мутной пеленой, сквозь которую угадывались лишь смутные тени интерьеров. Бетонные дорожки, лучами расходившиеся от центрального входа, были выстланы сложными, мгновенно исчезающими под ногами узорами влажной пыли, похожей на иней. Казалось, сама природа затаила дыхание. Мелкий, пронизывающий холодок, не столь сильный, чтобы заставить ежиться, но достаточный, чтобы впитываться в кожу и пробирать легкой, настойчивой дрожью, исходил отовсюду: от мокрого гранита ступеней, от стальных поручней, от стекол машин, припаркованных у тротуара.
Воздух был густым и тяжелым, наполненным запахом прелой листвы, размокшей земли и сладковатым душком гниющих где-то в дальних уголках парка ягод. Поздняя осень не щадила здешний пейзаж, затягивая всё в спокойную, чуть удушливую дымку, стиравшую границы между небом и землей. Из зарослей пожухлого кустарника, подпиравшего стены ограды, доносилось редкое, осторожное шуршание – возможно, ёжик, готовящийся к спячке, или промокший воробей, – но больше никаких звуков не прорывалось сквозь ватную тишину. Будто сама природа смолкла, затаилась, предвкушая что-то важное, неотвратимое, что должно было случиться за этими стенами.
Именно в этой приглушённой, почти мистической атмосфере сотрудники «Биофронта» начинали свой рабочий день. Массивная дверь главного корпуса, отделанная темным деревом и матовым металлом, периодически с тихим шипением гидравлики приоткрывалась, выпуская наружу людей в непромокаемых плащах и темных пальто. Они торопливо, почти бегом, пересекали двор, их фигуры казались призрачными и невесомыми в молочной дымке. Кто-то прижимал к груди стопки бумаг, прикрывая их от сырости полой плаща, кто-то не отрывал взгляда от планшета, подсвеченного холодным синим светом, но большинство лишь мельком, автоматически поглядывали по сторонам, обуреваемые мыслями не о погоде, а о скором запуске глобального проекта, который обещал переменить саму суть медицинского вмешательства, подарив миру новое «Дыхание».
Эвелин Рид, руководитель программы по наномедицине, уже была внутри. Она шла по длинному, слабо освещенному коридору «крыла Б» легкой, почти неслышной походкой, ее мягкие замшевые лоферы бесшумно ступали по шершавой плитке холодного, сероватого оттенка. В руках она сжимала небольшой стальной термос с крепким, почти черным кофе – своей единственной, верной поддержкой перед очередным напряжённым днём, растягивающимся на двенадцать, а то и пятнадцать часов. Глаза у неё, обычно ясные и проницательные, сейчас казались утомлёнными, отчего белки были слегка красноватыми, а взгляд – отсутствующим, обращенным внутрь себя. В памяти всплывали вчерашние расчёты, графики и симуляции, которые она просматривала до глубокой ночи, стремясь отточить до совершенства прихотливую логику «роевого» интеллекта для новых нанороботов. Каждая формула, каждый алгоритм отзывались в висках тупой, нарастающей болью.
«Кто бы мог подумать, – мелькнуло в голове у Эвелин, и эта мысль была горьковатой, как её кофе, – что когда-то я, девочка с разбитым сердцем, буду стоять на пороге настоящей революции в медицине, а мир снаружи останется таким же хмурым, холодным и безразличным. Будто ничего и не происходит. Будто мы не пытаемся переписать законы биологии.»
Снаружи, за этими стенами, и правда иногда казалось, что ничего не меняется: все те же дожди, те же туманы, те же лица в метро. Но здесь, внутри, в стерильных лабораториях и за мощными серверами института «Биофронт», уже зарождалось будущее. Будущее, которое вскоре должно было вырваться на свет, чтобы подарить надежду, спасти тысячи, а может, и миллионы жизней. Оно витало в воздухе, смешиваясь с запахом озона и спирта, пряталось в мерцании светодиодов и тихом гудении процессоров. Оно было совсем близко. Осталось сделать последний, самый трудный шаг.
Часть I. Истоки идеи
Глава 1. Лаборатория разноцветных огней
Кабинет-лаборатория «НаноПро», затерянная в глубоком подвале с кодовой табличкой «А-17», была больше похожа на логово алхимика будущего, чем на стандартное научное помещение. Попав сюда через шлюз с шипящими гермодвери, любой гость почувствовал бы резкое, почти шоковое отличие от холодной, дождливой осени снаружи. Здесь царила идеально контролируемая среда: температура стабильно держалась на отметке 20.3°C, а влажность не превышала 45%. Воздух был стерильным и прохладным, с едва уловимым, но цепким запахом изопропилового спирта, смешанным со сладковато-металлической ноткой озона от разряженных плазменных ламп и жужжащих генераторов. Глубокий полумрак, призванный снизить нагрузку на глаза от мониторов, разгоняли мириады разноцветных индикаторов на установках: насыщенные синие и фиолетовые огни биореакторов, пульсирующие зеленые точки спектрометров, призрачное малиновое свечение лазерных облучателей, отбрасывающее длинные, пляшущие тени на стеллажи с пробирками. Эти огни отражались в глянцевых поверхностях приборов и в глазах исследователей, создавая ощущение постоянного, неумолчного движения, тихой электронной жизни.
Тишину лаборатории нарушало негромкое, но насыщенное звуковое полотно: ровный гул серверных стоек, похожий на дыхание спящего великана, прерывистое потрескивание мощных охлаждающих систем, щелчки реле и периодический мелодичный сигнал, оповещающий об окончании очередного цикла анализа. Под ногами едва ощутимо вибрировала плитка от работы центрифуг, спрятанных в соседнем помещении.
– Утро доброе, – проговорил Лиам Кларк, чуть улыбнувшись, когда Эвелин, сняв плащ, подошла к его рабочему месту. Он уже сидел за мощным изогнутым монитором, на экране которого плавали сложные трехмерные модели молекул, с термокружкой в руке, потягивая горячий чай с мятой. На нём был узкий, идеально выглаженный белый халат и дорогие бесшумные кроссовки, которые он предпочитал официальной обуви для большей мобильности в течение долгого дня. – Считал данные за ночь. Симуляция третьего протокола. Результаты… обнадеживающие.
– Покажи, – попросила Эвелин, ставя термос на свободный от бумаг угол стола и подходя ближе к экранам. От неё пахло чем-то тонким, почти неуловимо цветочным – дорогими духами с нотками ириса и фиалки, смешанной с горьковатым, терпким кофейным ароматом, который, казалось, уже стал частью её естества.
Лиам щёлкнул мышью, и на большой центральный дисплей вывелись изящные, плавные графики, показывающие поведение нанороботов в пробирках с модельной плазмой. Разноцветные кривые, похожие на кардиограммы неведомого существа, то взлетали, то падали. Спектр «активности» наночастиц колебался, указывая на попытки роя «залечить» искусственно созданные микротрещины в белковых структурах, имитируя поврежденные ткани.
– Похоже, рой наконец-то научился не просто хаотично двигаться, а находить микроповреждения по градиенту концентрации фибриногена и целенаправленно стягивать их, создавая подобие естественного сгустка, – сказал Лиам, водя курсором по острым пикам на графике. Его голос звучал устало, но с явной нотой профессиональной гордости. – Но пока эффективность стабилизации на уровне 60–62 процентов. И, что критичнее, у нас сохраняется риск «избыточного ремонта» или, как я это называю, «роботического фиброза», когда нанороботы, не распознав границы повреждения, начинают сшивать между собой абсолютно здоровые клетки, создавая рубцовую ткань.
Эвелин нахмурилась, скрестив руки на груди. Она мысленно примеряла эти цифры к реальному человеческому телу. Шестьдесят процентов… Этого мало. Слишком мало для клиники.
– Надо обучить их точнее дифференцировать патологию от нормы. Не по одному лишь фактору, а по комплексу маркеров. Иначе пользы от такой терапии – чуть больше, чем от плацебо, а риски зашкаливают. – Она на секунду замолчала, вглядываясь в мелькающие данные, ища в них ответ. – Попробуем внедрить в их поведенческий алгоритм не только «селекцию по аномальному pH», но и добавить чувствительность к локальной температуре и концентрации определенных цитокинов? В зонах острого воспаления этот комплекс обычно меняется радикально. Это могло бы стать более надежным маркером.
Она знала, что предлагает усложнить и без того невероятно непростую систему, но другого пути не видела. Лиам кивнул с внезапным воодушевлением, его усталость будто отступила перед интересной задачей.
– Да, отличная идея! Комбинированный сенсорный порог. Это должно резко снизить количество ложных срабатываний. Кстати, Адриан как раз вчера вечером обещал дописать и протестировать такой модуль для следующей сборки прошивки. Говорил, что у него есть на примете элегантное решение.
Они обменялись короткими, усталыми, но искренними улыбками людей, говорящих на одном языке и болеющих за одно дело. В этих стенах, на уровне пробирок и симуляций, эти крошечные, невидимые глазу нанороботы уже обнадеживали: если проект «Нано-СК» – «НаноСанитарный Корпус» – сможет внутри живого, сложного организма точечно и безопасно «ремонтировать» ткани, это перевернет не просто принципы хирургии, а всю концепцию лечения. Это будет тихая, внутренняя революция.
Внезапно раздался резкий, вибрирующий гудок внутреннего телефона. Эвелин вздрогнула, вынырнув из потока мыслей. Лиам снял трубку.
– Да, понял. Сейчас. – Он положил трубку и повернулся к Эвелин. – Технологический совет через пятнадцать минут. Коэн уже требует предварительные отчеты по использованию реагентов.
Имя Коэн висело в воздухе между ними, как легкий, но неприятный запах гари. Улыбки мгновенно исчезли. Повседневная рутина и внутренние склоки вновь напомнили о себе.
Глава 2. Краткая историческая справка
Давление со стороны администрации и конкурирующего «Ген-Меда» нарастало, как гроза перед бурей. Требовалось формальное обоснование, «история успеха», упакованная в сухие строки отчета для инвесторов и комитета по этике. Эвелин Рид ненавидела эту бюрократическую волокиту, но понимала ее необходимость. Решив убить двух зайцев – и отчет подготовить, и выговориться, – она закрылась в небольшом звукоизолированном боксе для приватных звонков, примыкавшем к главной лаборатории.
Здесь было тесно и душно. Гул насосов и вентиляторов, обычно заполнявший все пространство, сюда доносился приглушенным, монотонным фоном, словно отдаленный прибой. Воздух пах озоном от старой электроники и пылью, въевшейся в пластиковые панели стен. Единственным источником света была холодная голубоватая LED-лампа, встроенная в потолок и отбрасывающая резкие тени на ее лицо. Эвелин прислонилась лбом к прохладной стенке, на секунду закрыла глаза, собираясь с мыслями, затем включила диктофон на своем планшете. Ее голос, обычно четкий и уверенный, теперь звучал приглушенно и устало.
«Голосовая заметка для отчета по проекту «Нано-СК». Начало… год назад мы официально запустили разработку «НаноСанитарного Корпуса» – комплекса автономных нанороботов, предназначенных для целевой клеточной микрохирургии и регенеративной терапии.»
Она сделала паузу, подбирая слова, превращая сложные концепции в доступные формулировки.
«Идея, по сути, не нова. Она уходит корнями в ранние научно-фантастические фантазии о «нанитах» – микроскопических машинах, способных лечить тело изнутри, чинить его на фундаментальном уровне. Помните «Внутреннее пространство» или «Престиж»? Все это казалось красивой сказкой. Но только теперь, благодаря конкретным, осязаемым прорывам в области квантовых сенсоров, сверхтонкой наноэлектроники и синтетической биоинженерии, мы можем реально воплотить эту сказку в металле и керамике. Мы научились создавать не просто частицы, а сложные устройства с элементарным искусственным интеллектом, способные к коллективному поведению.»
Еще пауза. Она перевела взгляд на мерцающий индикатор диктофона, и ее мысли невольно ушли глубже, за пределы сухих технических фактов.
«Я лично занялась этим проектом… потому что всегда мечтала о медицине без скальпеля. О медицине, которая не калечит, чтобы исцелить. Которая приходит не с болью и шрамами, а с тихим, невидимым шепотом внутри…»
Голос дрогнул. Перед ее внутренним взором всплыл образ: солнечный день за окном больничной палаты, резкий, невыносимый запах антисептика, смешанный со сладковатым запахом увядающих цветов на тумбочке. И тихий, прерывистый стон…
«Ещё в детстве…» – Эвелин осеклась, горло внезапно сжалось. Она откашлялась, пытаясь взять себя в руки, но воспоминание, как волна, накрыло ее с головой. – «Мой младший брат, Лео… он погиб из-за тяжелой, стремительной формы глиобластомы. Опухоль мозга. Ее нельзя было прооперировать. Никак. Скальпель был беспомощен. Лучевая и химиотерапия лишь ненадолго оттянули неизбежное… Я тогда часами сидела у его кровати, держала его за руку и… чувствовала свое абсолютное бессилие. Я смотрела, как он угасает, и не могла ничего сделать. Ни-че-го.»
В боксе стало невыносимо душно. Она с силой сжала планшет, костяшки пальцев побелели. Слезы подступили к глазам, но она их смахнула, сердитая на саму себя за слабость.
«Если бы тогда, десять лет назад, у нас были такие нанороботы… способные проникнуть через гематоэнцефалический барьер, точечно уничтожить раковые клетки, не задевая здоровые… Может, он бы выжил. Может, сейчас бы…» – голос сорвался в шепот.
Она заставила себя замолчать, сделав глубокий, нервный вдох. Несколько секунд длилась тишина, нарушаемая лишь ровным гудением техники за стеной. Она снова почувствовала тот самый ком в горле, острый и колющий, как в день похорон.
«Простите. Это не для отчета», – прошептала она уже для себя, но палец не потянулся к кнопке «стереть». Эти слова тоже были частью правды. Правды, которая двигала ей все эти годы.
Она потянулась за бумажным стаканчиком с давно остывшей водой, сделала глоток, с трудом проглотив воду сквозь спазм в горле.
«Теперь… теперь у нас есть шанс. Шанс дать другим людям то, что мы не смогли дать Лео. Дать им то, что я называю «дыханием внутри клетки». – Ее голос вновь набрал силу, в нем зазвучала знакомая твердость и страсть. – Именно так. Это способность организма к самоисцелению, но выведенная на принципиально новый уровень. Не пассивное ожидание, а активное, управляемое, точечное восстановление изнутри, под контролем умных, послушных машин. Но пока… пока предстоит колоссальная работа. Горы проблем. И не только технических.»
Она отключила запись, резко ткнув кнопку. В тишине бокса ее собственное дыхание казалось громким и неровным. Она сидела неподвижно, чувствуя, как знакомая сердечная боль, старая, как и она сама, смешивалась с острой, тихой радостью исследователя, ведь сейчас они с командой действительно, буквально по кирпичику, воплощали то самое несбывшееся когда-то чудо, ту самую надежду на спасение.
Внезапно в дверь постучали. Резко, нетерпеливо.
– Эвелин? Вы тут? Совет ждет. И Коэн уже излучает ядовитые флюиды на всю коридор, – послышался голос Лиама сквозь дверь.
Реальность ворвалась в ее укромное убежище, грубая и неумолимая. Эвелин глубоко вздохнула, вытерла глаза тыльной стороной ладони и потянулась к ручке двери. Работа ждала.
Глава 3. Конфликт с отделом «Ген-Мед»
Научный Институт «Биофронт» был не монолитом, а скорее хрупкой коалицией враждующих княжеств под одной крышей. И если «НаноПро» ютилось в подвальных этажах, царстве тусклого света и гудящих серверов, то отдел генной терапии «Ген-Мед» располагался этажом выше, в просторных, залитых солнцем лабораториях с панорамными окнами. Возглавляла его доктор Амалия Коэн – женщина, чья харизма была столь же яркой, сколь и бескомпромиссной.
Амалия была полной противоположностью Эвелин. Где Эвелин предпочитала удобные свитера и практичную обувь, Амалия всегда появлялась в идеально сидящем коричневом деловом костюме, ее каштановые волосы, подстриженные ровно до плеч, лежали безупречными волнами. Ее каблуки отмеряли четкий, уверенный ритм по коридорному линолеуму, звук, который сотрудники «Нано-СК» научились узнавать и которого ждали с содроганием. Ее глаза, холодные и пронзительные, всегда горели яростным огнем, когда речь заходила о нанороботах.
– Эти игрушки? – ее голос, обычно низкий и бархатный, становился резким и колючим. – Да они вечно будут сталкиваться с иммунной системой, вызывать тромбозы, воспаления, отторжение! Это борьба с симптомами, а не с причиной. Генная терапия куда элегантнее и устойчивее: мы не вводим армию чужаков, мы перепрограммируем саму ДНК клеток, заставляя организм лечить себя сам. Естественно, изнутри. Зачем нужны миллиарды этих роботов, если можно дать одну инъекцию вирусного вектора с правильными инструкциями?
Эти слова, доносившиеся то из уст ее аспирантов, то из отчетов, то из случайных реплик в столовой, заставляли Эвелин внутренне кипеть. Она видела в генной терапии не элегантность, а грубое вмешательство с непредсказуемыми отдаленными последствиями. «Перепрограммирование ДНК» звучало для нее как игра в бога с непрочитанной инструкцией. Но внешне она старалась держать ледяной нейтралитет.
Их столкновения в коридорах стали легендарными. Длинные, бесконечные коридоры «Биофронта» пахли старой, стершейся краской, слабым запахом хлорки, которую по ночам использовали уборщики, и едва уловимым холодком, исходящим от бетонных стен. Эхо шагов других сотрудников, приглушенные разговоры за закрытыми дверьми создавали постоянный, неровный гул.
Именно в такой обстановке они и столкнулись в очередной раз. Эвелин возвращалась от совета, сжимая в руках планшет с свежими, но все еще неутешительными данными по биосовместимости. Амалия, напротив, шла навстречу, ее лицо озаряла уверенная, чуть насмешливая улыбка.
– Ну что, Эви, – начала она, растягивая слова, будто пробуя их на вкус. – Слышала, что у вас всё ещё неразрешимые проблемы с биосовместимостью? Опять какая-нибудь свинка отдала концы? Жалко зверюшек. Мы вот на мышах уже третью модель мышечной дистрофии вылечили. Без осложнений.
Эвелин остановилась, медленно выпрямив спину. Она чувствовала, как по спине пробегают мурашки от гнева, но голос ее прозвучал на удивление спокойно, почти бесстрастно.
– А у вас, Амалия, всё ещё мутации у пятнадцати процентов «вылеченных» мышей в третьем поколении? Как там поживает ваш знаменитый протокол с неконтролируемым теломеразами? Или вы уже научились останавливать рак, который сами же и провоцируете?
Улыбка на лице Амалии не дрогнула, но ее глаза сузились, стали похожи на щелочки лезвий.
– Мы работаем над точечностью доставки, Эвелин. Это издержки роста. А вы боретесь с фундаментальным непониманием иммунитета. И, кажется, проигрываете.
– Посмотрим, кто проиграет, когда дело дойдет до клиники, – парировала Эвелин, чувствуя, как сжимаются ее кулаки. – Ваши векторы не различают больные и здоровые клетки, они бьют по площадям. А наши «игрушки», как вы их называете, учатся работать точечно. Хирургически.
– О, как романтично! – фыркнула Амалия, сделав шаг вперед. Запах ее дорогих духов, тяжелый и цветочный, на мгновение перебил запах хлорки. – «Учатся». Вы говорите о них, как о детях в садике. Жаль, ваши детишки так и норовят убить пациента.
Она не стала ждать ответа, кивнула с притворным сожалением и пошла дальше, ее каблуки уверенно отстукивали по полу. Эвелин осталась стоять, глядя ей в спину, чувствуя во рту горький привкус ярости и беспомощности.
Этот негласный спор, это холодное противостояние двух идеологий, двух амбиций, двух личностей, витало в воздухе «Биофронта» плотнее, чем озон из лабораторий. И всех волновал один вопрос: кто первым добьется результата, достаточно убедительного для комитета по этике и, что важнее, для инвесторов? Грант, висевший над ними как спелое яблоко, мог получить лишь один проект. И проигравший рисковал оказаться не у дел. Это добавляло происходящему драматизма, превращая научный поиск в личную, бескомпромиссную дуэль.
Часть II. Развитие методов
Глава 1. Строение наноробота: подробное описание
К середине осени, когда за окнами «Биофронта» вовсю бушевала непогода, а рыжие листья клена, словно отчаянные десантники, прилипали к мокрым стеклам подвальных окон, команда «Нано-СК» завершила работу над улучшенной версией робота. Его создание было не просто инженерной задачей – это была ювелирная работа на стыке физики, биологии и программирования, сродни написанию стихотворения на языке атомов.
В тот день лаборатория «НаноПро» напоминала мастерскую микроминиатюриста. Воздух, как всегда, был прохладен и напоен запахом озона и спирта, но к ним добавился сладковатый аромат нагретой керамики и жженого кремния от паяльных станций. Со стороны комнаты для сборки доносилось негромкое, монотонное жужжание лазерного 3D-принтера, печатающего детали размером с вирус. Эвелин, Лиам и Адриан Нгуен, главный инженер-электронщик команды, собрались вокруг большого сенсорного экрана, на котором в мельчайших деталях вращалась трехмерная модель их творения.
– Итак, коллеги, представляю вашему вниманию «СК-2.7», – голос Адриана, обычно спокойный и ровный, сейчас звенел легкой гордостью. Он увеличил изображение, заставив модель парить в воздухе, словно диковинное космическое семя. – Наш ответ на все претензии иммунной системы.
Корпус: Не просто углеродно-керамический композит, а многослойная структура, напоминающая скорлупу грецкого ореха, только в наномасштабе. Толщиной в несколько нанометров, он обладал упругостью, достаточной для прохождения через капилляры, и прочностью, сравнимой с алмазом. Но главным был внешний слой – оболочка из специально синтезированных белково-липидных комплексов, так называемые «обманных» маркеров. Они постоянно обновлялись и подстраивались под химическую сигнатуру организма-хозяина, делая робота практически невидимым для макрофагов.
– По сути, мы подарили им плащ-невидимку, – пояснил Адриан, проводя пальцем по голограмме. – Или, если хотите, идеальный поддельный паспорт.
Движитель: Вместо громоздких пропеллеров или сложных механизмов – шесть миниатюрных, гибких «жгутиков» на основе молекулярных моторов. Они работали не на встроенной батарее, а питались напрямую из окружающей среды, расщепляя молекулы глюкозы и АТФ, как это делают митохондрии в живых клетках. Это решало проблему энергоснабжения и делало робота автономным.
– Они как колибри в мире клеток, – тихо сказал Лиам, зачарованно наблюдая за анимацией движения. – Невероятно эффективно и красиво.
Сенсорный блок: Самое сложное. Вместо одного сенсора – целая батарея из квантовых точек, способных улавливать малейшие изменения pH, концентрации определенных белков (например, маркеров воспаления или некроза), температурные градиенты и даже слабые электрические импульсы, испускаемые поврежденными клетками.
– Это их глаза, уши и нос одновременно, – сказала Эвелин. – Они не просто плывут по току крови. Они ищут. Следят за химической сигнатурой боли.
Логический модуль: Упрощенный ИИ, чип размером с несколько атомов. Его гениальность была не в мощности, а в архитектуре. Он не принимал решения в одиночку. Он постоянно «общался» с соседями через ультразвуковые импульсы (неслышимые ухом короткие щелчки) и химические маркеры – крошечные «феромоны», оставляемые в межклеточном пространстве. Это позволяло рою действовать как единый разумный организм с распределенным мозгом.
Именно этот модуль позволял роботу определять «где повреждение» и «как его латать» – либо используя встроенный ферментный инструментарий для «сшивания» тканей, либо доставляя точно выверенную дозу лекарства из своего микроскопического резервуара прямо в очаг патологии.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.