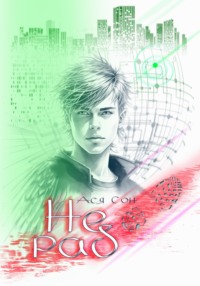Полная версия
Ния. В отражении времени
Боль переломанного тела напомнила о случившемся на дороге и смешалась с чужими страхами, обидами и злостью, а перед глазами вдруг проявились странные силуэты людей с перепуганными лицами. Они наперебой что-то рассказывали, становясь всё громче и громче, то исчезая, то проявляясь вновь. С тех пор гомон в ушах не прекращался, и это проникновение стало его наказанием. Он принял это и обязался слышать и видеть каждого, чтобы искупить свою вину.
Потом была тюрьма, дом терзаний, которая не столько мучила его своими условиями, сколько раздирала душу поломанными судьбами. Его сосед по камере смеялся над тем, как отравил грибами тёщу, хотя в его шутках таилось глубокое раскаяние от нелепой случайности. За суровостью надзирателя он улавливал нежность к своей годовалой дочери и желание скорее уйти на пенсию, чтобы проводить больше времени с семьёй.
Люди сменялись перед глазами, но их мучения оставались в его памяти. Однако, несмотря ни на что, мужчина видел, что каждый человек одинаково искал радость в своём существовании.
Жена приходила к нему в тюрьму несколько раз, но он отказывал ей в свиданиях, боясь перенести на неё своё проклятье, боясь увидеть в её улыбке разочарование. Чувство вины поглотило его без остатка. Он хотел бы всё изменить, но уже не мог. Она поняла это и больше не появлялась в его жизни. Своё дитя мужчина так и не увидел. Он даже не знал, кто родился и родился ли кто-то вообще.
Когда он вышел на свободу, то отправился туда, куда указывали ему голоса, надеясь хоть как-то замолить свой грех. Он научился слышать погибших также, как чувствовать эмоции людей, с той лишь разницей, что встречи с людьми можно было избежать, а голоса оставались с ним всегда. Прохожий перестал нормально спать и плохо ел. Он словно существовал между двумя мирами: у живых – ощущал тревоги и надежды будущего, у покойных – слушал незаконченные истории прошлого. Живые перестали его замечать, словно не хотели принимать его бездушную оболочку, а усопшие от себя не отпускали, пытаясь донести ему свои просьбы.
Прохожий ехал долго. Салон совсем опустел, за окном единой стеной чернел лес. Теперь он видел только своё искривляющееся отражение. Отражение человека, который всего на минуту прикрыл глаза за рулём такого же автобуса. Отражение человека, который остался жить, чтобы помнить и видеть каждого, кого погубил.
Двери распахнулись, и прохожий вышел в ночную темноту. Он шёл по знакомой дороге между тёмных деревьев к запертой ограде старого кладбища. Из кармана он достал ключ и уверенно повернул его в замке. Дверь ограды с визгливым урчанием поддалась, и прохожий запер её за собой с той уверенностью, с какой человек закрывает дверь дома.
Освещая фонарём гранитные плиты, он медленно обходил свою ночную обитель, стряхивал с надгробий налетевшую листву и заботливо поправлял покосившиеся кресты. Он оттирал от камня и скамеек птичий помёт и собирал мелкий мусор. Это всё не входило в обязанности ночного сторожа, но для него было важным, потому что здесь его ждали. Потому что он видел каждого. Видел семнадцать мерцающих призраков, чьи тела похоронили на этом кладбище. Все семнадцать душ, жизнь которых он разом оборвал из-за того, что был слишком счастлив.
Сторожка на кладбище стала его ночным домом раскаяния, где он преклонялся перед тусклым свечением призраков и следил за порядком на их могилах. Днём он ютился в крохотной дворницкой при больнице, чтобы, оставаясь безжизненной тенью, мести двор и переживать эмоции каждого пришедшего сюда человека. Каждый день его был одинаково плаксив и печален, как капризы бесконечной осени.
Эта ночь была такой же, как все предыдущие. Он уснул только под утро и поднялся, как всегда, пустым и безжизненным. За окном по подоконнику мелкой дробью сыпал дождь…
В дверь постучали. На пороге стояла молодая женщина под пёстрым зонтом. Девушка растерянно теребила красный шарф, висевший поверх расстёгнутого ярко-жёлтого пальто. Он посмотрел в её наивные голубые глаза и, к своему удивлению, ничего не почувствовал. Он не перенял её боли, не уловил и радости, только в дрожащей улыбке предположил затаённое волнение.
Он молча шагнул к ней на улицу. Гостья неповоротливо отступила назад, и в этом движении он увидел её округлый живот, который под верхней одеждой сразу не бросился в глаза. Она была беременна.
– Здравствуй, папа, – полушёпотом произнесла она, и на её глаза навернулись слезы. – Я знала, что ты жив… Я верила в это…
Он стоял не шевелясь. Осенними листьями зашелестели призраки, но их слова отчего-то стали для него неразборчивы. Он перевёл взгляд от гостьи на прозрачное марево, что появилось за её спиной. Он отчётливо видел, как оно преломлялось и непривычно отблёскивало радужными зайчиками на фоне серости осенней грязи.
«Выходи из тени… Живи… Ты прощён», – различил он фразы из невнятного гула.
Хмурое лицо мужчины разгладилось. Его серые глаза увлажнились. Он широко улыбнулся девушке и обнял её тёплую руку высохшими ладонями.
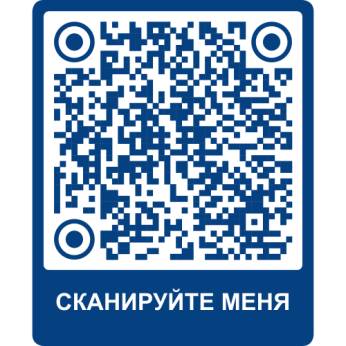
На грани славы
1. Дорога к синему свету
В тот необычайно душный вечер конца мая, когда даже кондиционеры задыхались от бессилия, а солнце, словно издеваясь, никак не желало скрываться за горизонтом, в квартире дома номер семь было очень тихо. Старенький ноутбук, исправно служивший хозяину последние несколько лет, уже половину дня стоял открытым, демонстрируя неестественно чёрный экран, на котором отражалось нечто, совершенно не похожее на привычный образ владельца.
Виргинский – а нужно заметить, что это был тот самый Тимофей Виргинский, чьи книги ещё недавно красовались на витринах книжных магазинов, – медленно провёл пальцем по поверхности экрана, словно пытаясь стереть с него не своё отражение, а какой-то другой, призрачный образ, настойчиво напоминающий о собственном ничтожестве. Его движения были настолько неуверенными, что казалось, будто он опасался разрушить некую невидимую грань между реальностью и миром, притаившимся по ту сторону.
Покрытая отпечатками пальцев поверхность отражала не только его исхудавшее лицо с поджатыми бескровными губами. Любой, кто в тот момент заглянул бы в окно его квартиры, мог бы поклясться, что в глубине экрана мелькало не просто отражение, а нечто совершенно иное, похожее на отчаяние человека, заглянувшего в бездну собственного падения. Ибо что может быть мучительнее для литератора, чем осознание того, что третья его книга подряд провалилась в пустоту читательского равнодушия с оглушительным треском, до сих пор разнося по литературным кругам эхо язвительной критики и сарказма?
Виргинский нервно потеребил серебряную брошь в виде булавки с блестящим шариком на конце. В этот момент в его сознании отчетливо прозвучал голос Светланы: «Может, стоит сделать перерыв?»
Её голос, надо признать, возбуждающе действовал на писателя, так как эта женщина больше десяти лет не просто делила с ним кров, но была его музой и путеводной звездой в бурном море литературных исканий.
Светлана была удивительно терпеливой. Она умудрялась совмещать в себе и маяк, освещающий путь заблудших мыслей Виргинского, и тихую гавань, где его душа находила успокоение. Но, пожалуй, главной примечательной особенностью Светланы было то, что она появлялась рядом с писателем именно в те моменты, когда он балансировал на тончайшей грани между гениальностью и помешательством. Она как будто чувствовала приближение очередного приступа его творческого безумия.
Впрочем, теперь всё это осталось лишь в воспоминаниях: он недооценил её. Подруга исчезла из его жизни также неуловимо, как исчезает отражение в разбитом зеркале, оставив после себя лишь смутное ощущение невосполнимой утраты.
Виргинский, словно наказывая себя за горькие воспоминания, с неожиданной яростью впился ногтями в собственное предплечье, оставляя на коже кровавые полосы.
Светлана исчезла из его жизни. Совсем… Неужели причиной этого стали непроданные книги? Неужели любовь могла закончиться лишь из-за того, что со временем всем свойственно меняться?
«А синие фонари горят вечно», – прочёл он заголовок, бездумно открыв страницу литературного журнала. Статья, с фотографией старинного особняка в голубоватой дымке сумерек, гласила следующее:
«Говорят, что когда-то этот величественный особняк с его белоснежными колоннами и широкими балконами был настоящей жемчужиной здешних мест. Теперь же, окружённый разросшимися деревьями, кроны которых прячут его от любопытных глаз, он представляет собой поистине удивительное зрелище: по вечерам, когда солнце скрывается за горизонтом, по всему периметру усадьбы зажигаются фонари, излучающие свет странного, неестественного оттенка.
Честно признаюсь, что, несмотря на журналистское любопытство, я не рискнул исследовать внутренние помещения особняка. Причиной тому послужили не столько обветшалые стены и местами провалившаяся крыша, сколько истории, которые рассказывают местные жители. И эти истории, скажу я вам, способны заставить содрогнуться даже самого отъявленного скептика.
По словам старожилов, в конце прошлого века (а может, и много раньше), хозяин дома, доведённый до безумия разорением, стал убивать всякого, кто переступал порог его владений. С каждой новой смертью в стенах дома пламя фонарей вокруг приобретало всё более холодный синий оттенок, словно впитывая в себя души несчастных жертв.
Что же касается самого хозяина, то его тело, если верить рассказам местных, до сих пор покоится где-то в недрах мрачного здания, добавляя к и без того жуткой репутации новый слой таинственности. Говорят, что его неупокоенная душа, переполненная горечью и злобой, не может покинуть пределы синих фонарей и продолжает бродить по заброшенным коридорам в поисках новых жертв.
И знаете что? Я бы первым посмеялся над этими россказнями, если бы своими глазами не видел, как в безветренный вечер фонари вдруг вспыхнули сами собой, озарив окрестности синим светом. А не значит ли это, что убийства продолжаются?»
Виргинский отложил журнал и потёр подбородок. История, безусловно, попахивала дешёвой мистификацией, рассчитанной на доверчивых читателей. Однако фотография… Что-то было в этом голубоватом свечении, в тенях, притаившихся между колоннами, настолько притягательное и жуткое одновременно, что писатель понял: он должен увидеть особняк своими глазами. Возможно, это место помогло бы ему в поиске вдохновения.
Дорога к особняку змеиной тропой петляла между болотами. Потрёпанная машина натужно кашляла на поворотах, поднимая облака пыли, в которых плясали отблески заходящего солнца. Навигатор, верный спутник современного путешественника, давно сдался, демонстрируя лишь издевательски мерцающий зелёный экран. Впрочем, указания местных жителей были предельно просты, хотя и звучали как строчка из плохого готического романа: «Езжай на синее зарево. Только помни: уходи после заката. Пропадёшь».
Первый синий фонарь Виргинский заметил, когда солнце уже почти скрылось за горизонтом. Голубое сияние пробивалось сквозь туман, который висел над болотистой местностью, создавая вокруг себя призрачный ореол. За первым показался второй, третий – они выстраивались в неровную цепочку, ведущую к тёмной громаде особняка.
Остановив машину у проржавевших чугунных ворот, писатель машинально потянулся за телефоном. И тут же невольно усмехнулся: разумеется, по закону жанра, связь в этом месте отсутствовала. В голубоватом свете его исцарапанные руки приобрели какой-то трупный оттенок, и творческое воображение тут же услужливо начало подбрасывать первые мистические образы.
Особняк, представший перед ним во всём своём заброшенном великолепии, действительно напоминал севший на мель корабль-призрак, простоявший не одно столетие. Его некогда белоснежные стены приобрели цвет старой кости, а пустые окна взирали на мир с тем безразличием, которое присуще лишь домам, пережившим немало человеческих страстей. Парадная лестница, поросшая мхом, вела к массивной двери, и каждая потрескавшаяся ступенька, казалось, хранила память о тех, кто уже никогда не вернётся обратно.
«Уходи…» – прошелестело в кронах старых дубов, и Виргинский поёжился, не в силах определить, был это просто ветер или… Впрочем, он тут же отогнал эту мысль.
– Я здесь только на одну ночь, – вслух успокоил он себя. – Мне нужен материал для книги. Ничего больше.
Но почему-то эти слова прозвучали не так убедительно, как ему хотелось.
Дверь поддалась с неожиданной лёгкостью. В нос ударил запах сырости, старого дерева и чего-то ещё, явно застоявшегося в пустых комнатах. Тимофей включил фонарик на телефоне, и луч света заплясал по стенам, выхватывая обрывки старых обоев, почерневшие от плесени картины в массивных рамах – следы некогда роскошной жизни.
Холл вторил его шагам гулким эхом, которое, казалось, множилось под высокими потолками. Где-то в глубине дома послышался шорох – то ли возня мышей, спешно прячущихся по углам, то ли… Совсем рядом, как будто под чьей-то ногой, скрипнула половица, и мозг писателя тут же нарисовал образ усмехающегося над ним дома.
Широкая лестница, ведущая на второй этаж, всё ещё хранила следы былого величия, хотя её перила, покрытые слоем липкой пыли, теперь больше напоминали забытые декорации.
– Писатель ищет вдохновение? – раздался голос, такой внезапный, что Виргинский вздрогнул и чуть не выронил телефон.
Он резко обернулся, луч фонарика заметался по стенам, но в холле никого не оказалось. Только синий свет из окон создавал причудливые тени, которые двигались словно сами по себе.
– Кто здесь? – голос Виргинского прозвучал неожиданно хрипло.
Ответа не последовало, однако тишина казалась Виргинскому живой, наполненной чьим-то внимательным присутствием. Писатель сглотнул и начал подниматься по лестнице. Каждая ступенька стонала под его весом, как будто дом жаловался на непрошеного гостя.
Коридор второго этажа тянулся в обе стороны, теряясь в темноте. В синеве, проникающей через высокие окна, тёмные проёмы приоткрытых дверей казались входами в иные миры. В этой полутьме Виргинскому почудилось лёгкое движение, словно кто-то только что скрылся за углом, не желая быть замеченным.
Виргинский выбрал первую дверь справа. Судя по остаткам книжных шкафов, расположенных вдоль стен, и массивного стола посередине, это был кабинет. Большинство книг истлело и сгнило от времени, но некоторые тома всё ещё стояли на полках, поблёскивая корешками в луче фонарика.
– Хочешь написать историю? Или готов стать её частью? – снова послышался голос, теперь ближе, почти над ухом.
Тимофей резко развернулся. В дверном проёме на мгновение мелькнул силуэт высокого мужчины в костюме прошлого века, однако фонарик осветил пустоту с танцующими в воздухе пылинками. Из коридора потянуло холодом. Виргинский поёжился.
Отойдя от стола, писатель принялся разглядывать дальнюю стену, на которой висел примечательный портрет. Луч фонарика выхватил из темноты лицо мужчины средних лет, написанное с поразительным мастерством. Глаза смотрели прямо на зрителя с пугающей проницательностью, а уголки губ изгибались в едва заметной усмешке.
В этот момент синий свет за окном стал ярче, наполняя комнату каким-то призрачным сиянием, и в этом неестественном мерцании Тимофею показалось, что глаза на портрете моргнули. Он почувствовал мурашки, устремившиеся по ногам вверх, и с опасением отвёл взгляд от портрета.
Неожиданно он увидел на столе старую тетрадь в кожаном переплёте. Она лежала так, словно кто-то только что её сюда положил: ни пылинки, ни следа времени. Потянувшись было к ней, писатель вдруг остановился и настороженно взглянул в окно: свет фонарей затрепетал, то ослабляя пламя, то вновь усиливаясь. Тени в углах комнаты зашевелились, принимая причудливые формы, и через мгновение вновь исчезли.
Дрожащими руками Виргинский взял тетрадь и почувствовал тепло кожаного переплёта, точно вынутого кем-то из-за пазухи. На первой странице витиеватым почерком было выведено: «Дневник Александра. Начат в год моего падения, закончен в день моего освобождения».
Синее свечение на мгновение вновь усилилось до прозрачной голубизны, ослепляя писателя. Когда же оно вернулось в прежнее состояние, Виргинский увидел, что на столе появились чернильница и очинённое перо – он готов был поклясться, что секунду назад их там не было.
Он перелистнул несколько страниц, удивлённо наблюдая свежий блеск чернил и еле уловимую пульсацию строк.
«Сегодня я потерял всё. Банк забрал последнее, что у меня осталось, кроме этого дома, – выхватил писатель из текста и пробежался глазами по диагонали. – Елена говорит, что мы справимся, что главное – мы вместе. Она не понимает. Никто не понимает. Эти фонари… Они говорят со мной. Указывают путь».
Тимофей перевернул страницу, и из дневника в ладонь выпала старая чёрно-белая фотография. На ней был запечатлён тот же человек, что и на портрете, только моложе, а рядом улыбалась миловидная женщина. Они стояли на фоне особняка, который тогда ещё сиял белизной и величием.
Внезапно порыв ветра распахнул окно и ударил створкой с такой силой, что остатки стекла с глухим звоном осыпались на пол. Холодный воздух ворвался в комнату, страницы дневника затрепетали в руках, а фотография метнулась из пальцев и поднялась в воздух, гонимая невидимой силой. В этот момент разом погасли все фонари, погрузив комнату во мрак.
Виргинский услышал, как по коридору медленно приближаются тяжёлые шаги. Чей-то угрюмый голос донёсся из темноты, называя его по имени, и писателю показалось, что сам дом, впитавший в себя все страдания и тайны, когда-либо происходившие внутри, вдруг заговорил с ним. Телефон резко погас, вероятно, под давлением той же силы, что поглотила свет фонарей, а Виргинский в ужасе замер, готовясь к худшему. Творческое сознание, пробуждающее забытые страхи и воспоминания, рисовало призыв невидимки. Перед глазами возникли образы: тени, скользящие по коридорам, и лица, полные боли и отчаяния, бродящие по комнатам.
– Добро пожаловать, писатель. Я так долго ждал, когда кто-нибудь расскажет мою историю, – вдруг отчётливо услышал Виргинский.
Шаги остановились в проёме двери, и в абсолютной темноте появилось слабое свечение призрачного силуэта мужчины. Его очертания были размытыми, как видение под водой, но лицо… Оно было чётким, как на портрете и фотографии.
Синие фонари за окном вспыхнули снова – все разом, но их свет стал другим, более глубоким, затягивающим. Призрак улыбнулся сочувственно и с пониманием.
– У тебя есть время до рассвета, чтобы прочесть мою историю и написать свою, – глухо произнёс он. – Если, конечно, хочешь выйти отсюда.
Виргинский торопливо посмотрел на часы: до рассвета оставалось каких-то семь часов. Столь малое время, чтобы прочитать историю человека, превратившего дом в клетку для собственных демонов, и совершенно невероятное, чтобы написать роман.
Синий свет подрагивал за окнами, очерчивая границы территории, за которую призрак не мог выйти. А может, это были границы ловушки, в которую Виргинский сам себя загнал в поисках вдохновения?
Тимофей крепче сжал дневник, чувствуя, как кожаный переплёт пульсирует под пальцами живым сердцебиением.
2. Дневник безумца
Тимофей Виргинский устроился в старом кресле у окна и принялся изучать дневник, освещая страницы ожившим фонариком телефона. В полумраке кабинета, с пляшущими от голубого мерцания тенями, он рассматривал, как переливались чернила, словно только что нанесённые на пожелтевшую бумагу.
«Сегодня 1 мая. Елена настояла на том, чтобы я начал делать записи, так как в последнее время я стал рассеянным и забывчивым. Возможно, она права. Дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Всё чаще ловлю себя на мыслях, которые раньше отбрасывал в сторону: странных, мрачных.
Вчера, например, один из моих служащих пришёл с претензиями по выплатам. Обычное дело, но я вдруг представил, как сжимаю его горло… и эта фантазия принесла мне удовольствие. Что со мной происходит?»
Виргинский хотел было перевернуть страницу, но порыв ветра из разбитого окна вновь взъерошил листы. На мгновение в синеве света показалось, что по кабинету проплыла женская фигура в старинном платье. Её силуэт растворился в тенях, оставляя лёгкий шлейф духов, до боли напоминающий родной аромат жасмина.
«15 мая. Сказал жене, что сегодня подписал договор с банком. Елена обрадовалась. Но она не знает главного: если я вовремя не верну долг, банк отберёт у меня всё».
Виргинский оторвался от чтения и прислушался. Где-то в глубине дома заскрипели старые половицы. Он поднял глаза и вздрогнул: портрет на стене изменился. Теперь Александр смотрел не прямо, а куда-то в сторону. Его улыбка стала жёстче, острее.
«20 мая. Провалы в памяти участились. Сегодня я очнулся в подвале, хотя помню, что работал в кабинете. На руках грязь, словно копал землю. Елена спрашивала, где я был – пришлось что-то солгать. Но что, не помню. Она смотрела на меня с недоверием. Со страхом. Она боится за меня? Или меня? Или того, кем я становлюсь? Я уже и сам не знаю».
Синий свет за окном подрагивал, отбрасывая на страницы дневника причудливые тени, которые складывались в силуэты людей, стремящихся убежать от неведомого ужаса. Виргинский ощутил, как ночная прохлада, проникая сквозь разбитое окно, окутывает кабинет невидимой вуалью. Он поднялся с кресла, поёжился и задумчиво выглянул на улицу. Ему показалось, что в голубом свете, на границе между реальностью и миражом, вальсировали неясные силуэты.
«1 июня. Я разорён. Я потерял всё. Банк забрал последнее, что у меня осталось. Всё, кроме дома. До него ещё не успели добраться…
Кончено, Елена плачет. Её слёзы раздражают. Я чувствую себя неудачником. Она говорит, что мы справимся, что главное – мы вместе. Она не понимает. Никто не понимает. Эти фонари… Они говорят со мной. Указывают путь. Глупая, наивная женщина.
Тот, другой я, он знает, что делать. Он шепчет мне по ночам, показывает выход. Сегодня он особенно настойчив. Говорит, что Елена – наша главная помеха.»
В мертвенной синеве мелькнули угрожающие тени, заставляя сердце Виргинского возбуждённо трепетать то ли от страха, то ли от предвкушения развязки.
«Сегодня 3 июня. Я сделал это. Боже, я сделал это. Её тело лежит в подвале, такое красивое даже сейчас. Она не кричала – просто смотрела на меня с удивлением, когда мои руки сомкнулись на её горле. Когда я поднялся в дом, за окном зажглись фонари – все разом. Сами. Их пламя посинело… Они словно приветствовали моё освобождение.
Теперь он всегда со мной, мой тёмный брат. Он сказал, что мы вместе будем ждать гостей. Питаться каждым, кто осмелится нарушить наш покой и отобрать дом. А фонари… фонари направят».
Виргинский оторвался от дневника, осознавая ужас написанного. В углу кабинета неподвижной дымкой рисовалась тёмная неясная фигура. Тимофей вновь перевёл взгляд на портрет Александра. Теперь его глаза, казалось, следили за каждым движением гостя.
Тень в углу уплотнилась, принимая чёткую форму, а затем внезапно сделала шаг вперёд, и Тимофей различил в ней очертания той самой женщины, что видел несколько минут назад. Её лицо размывалось, то и дело теряя резкость, однако в этом необъяснимом мареве хорошо прослеживалось разочарование.
– Елена? – озадаченно произнёс Виргинский, но фигура лишь качнула головой и вновь исчезла в темноте.
За спиной раздался тихий смех. Холодное дыхание коснулось шеи. Сердце зашлось в сумасшедшем ритме.
– Читай дальше, писатель, читай. История только начинается…
Виргинский послушно опустил голову в текст:
«10 июня. Сегодня приходил этот… банковский прихвостень. Теперь он рядом с Еленой. Тёмный брат доволен – говорит, с каждой душой мы становимся сильнее. Фонари горят всё ярче, их синева очерчивает границы наших владений…»
Тимофей кожей ощущал, как нечто зловещее наблюдало за ним из темноты, но не смел оторвать глаз от текста. А слова, написанные изящным каллиграфическим почерком, сливались в жуткие письмена.
«Я перестал вести счёт дням. Кажется, сегодня ещё август. Время потеряло смысл. Мы принимаем гостей – любопытных соседей, случайных путников, банковских служащих…»
Виргинский, читая эти строки, ощущал пробегающий по спине холодок. Слова, написанные с такой ясностью и восторгом, пугали, будто были выведены не рукой человека, а самой тьмой, проникающей из воспалённого сознания сумасшедшего. Каждое предложение, казалось, обвивало холодными пальцами шею Тимофея, заставляя его виски пульсировать в ритме нарастающего ужаса. Он не мог отделаться от ощущения, что за этими строками скрывалось нечто большее, чем просто помешательство – что-то зловещее, способное вырваться на свободу и затянуть в бездну смерти. Внезапно Виргинский ощутил, как его разум приблизился к грани между реальностью и безумием, где душу пронизала жуткая страсть к убийству, словно скрытые желания пробуждались тёмными силами и искали выхода.