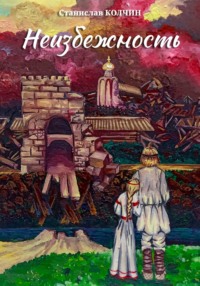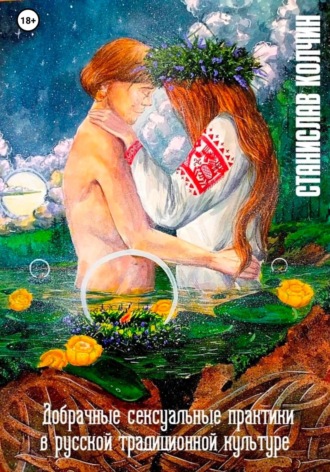
Полная версия
Добрачные сексуальные практики в русской традиционной культуре
Значение слова «Коляда» у разных народов различно: у виндийцев Koleda (коледа) почитается за божество празднеств, и также называются некоторые церковные обряды, а koledowati (коледовати) означает «хождение детей по разным домам с песнями и плясками». У чехов, болгар и сербов Koleda, а также wanoenj pisnieky значит – «святочная песнь», choditi po Kolede (ходить по коледу) значит поздравлять с Новым годом и за это получать подарки от каждого, кто что может дать».48
Во время празднования Коляды распространено колядование. «Колядование – приуроченный преимущественно к Святкам ритуал посещения группой участников, которые исполняли благопожелательные приговоры и песни в адрес хозяев дома, за что получали ритуальное угощение».49
Само колядование связано с культом предков, ибо колядовщики в данном обряде являются, как бы представителями потустороннего мира предков. Еда, которую подавали колядовщикам, тоже была своеобразным даром предкам. Подробнее об этом можно прочитать в книге Виноградовой Л.Н. «Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования». Но даже в культе предков была некоторая эротическая составляющая.
«В Касимовском районе Рязанской области ещё в 30-е годы молодые мужчины и парни, собравшись компаниями человек по десять, наряжались «стариками» («дедами калёными»). «Придя на посиделки, «деды» пляшут, забавляются с девчонками [эти забавы, очевидно, мало отличались от тех, которые затевались «медведем» или «покойником».– Авт.]. Когда это надоест, «деды» хватают девиц и выволакивают их на улицу. Поднимается неописуемая свалка, так как изба обычно переполнена, кроме участвующих, ещё наблюдающими (главным образом, дети школьного возраста).
Вытащив девиц на улицу, на снег, «деды» задирают им подол и натирают снегом между ног (конечно, никаких панталон шостьинские девочки не носят, а может быть, умышленно не надевают их в эти дни).
Но интересней обстоит дело, когда эта процедура совершается коллективно. Тогда двое «дедов» берут девушку за ноги и поднимают кверху, держа юбку колоколом; третий насыпает в этот колокол лопатой до пол. Девушка, подвергнутая таким манипуляциям, отряхивается от снега, произнося: «Спасибо, дедушка родимый!» – и убегает обратно в избу».50
Этнографы И.А. Морозов и И.С. Слепцова, которые привели описание данного обряда в статье «Свидание с предком (Пережиточные формы ритуального брака в святочных забавах ряженых)», объясняют такие добрачные сексуальные обряды следующим образом:
«Мотив ритуального брака с предком, почтившим своим вниманием участников святочного торжества, является, по-видимому, ключевым для понимания смысла большинства сценок с участием ряженых, а также развлечений и игр, практиковавшихся во время игрищ.
В сценках, зафиксированных исследователями с середины прошлого века, ритуальный брак или даже коитус с «покойником», как воплощением предков, уже заменяется, как правило, «венчанием» и «женитьбой» всех присутствующих юношей и девушек, которые осуществляет персонаж, в большей или меньшей мере связанный с духами предков».51
М. Л. Лурье в статье «Эротические игры ряженых в русской традиции» приводит следующее описание игрищ с участием ряженых:
«Более распространённым видом эротического контакта в ряженье являлся поцелуй. Кстати, он часто наделялся животворной силой: целуя ряженых, девушка «чинила мельницу», «оживляла коня», «воскрешала покойника». Скорее всего, для ряженья поцелуй был важен не столько сам по себе, сколько как знак контакта между девушкой и ряженым, олицетворявшим мужское начало. Не случайно девушки так неохотно шли на это: целовать ряженых было страшно, противно и, наконец, стыдно, что явствует из многих рассказов бывших участников игрищ. В некоторых случаях поцелуй мог прямо символизировать половое сближение. Например, в игре в «стульчики» реплики ряженых подростков «Поцеловать теперь!» и «Поебать с голоду!» воспринимались как равнозначные – и в одной, и в другой ситуации выбранной девушке предстояло целовать «стульчика».
Встречались случаи, когда контакт носил иной характер: девушка должна была подержаться за половой член персонажа (натуральный либо изображавшийся каким-либо предметом) или за то, что его эвфемистически представляло в игре (это мог быть «межевой столб», «кран квасника» и т. д.).
В некоторых случаях девушек заставляли целовать фаллос (см. игру в покойника в очерке К. Завойко), а иногда – наблюдать за имитируемой эрекцией. При этом каждая из названных форм «приобщения» к фаллосу была функционально эквивалентна поцелую, поскольку тоже обеспечивала оживание «покойника» (в конкретном варианте последний эпизод мог отсутствовать, но в принципе он предполагался игрой), починку или имитацию действия какого-либо предмета, механизма («межа», «квасник», «аршин, отмеряющий ситец»).
Исконная ритуальность действа ряженых, направленного на контакт с присутствующими, подтверждается следующими обстоятельствами. Это, к примеру, обязательность участия в каждой из подобных игр всех девушек».52
М. Л. Лурье в данной статье приводит к выводу, что « в сущности, взрослая молодёжь проходила в этих играх ту же сексуальную инициацию, только на словесном уровне.
Коитальная ситуация проигрывалась здесь на словах, подобно тому как в других играх – в условных действиях. Таким образом, на ритуально-игровом уровне обеспечивалась и удостоверялась готовность молодёжи к брачным отношениям».53
Мне кажется, в данном вопросе именно М. Л. Лурье ближе к истине. Колядовщики, безусловно, связаны с культом предков, но, возможно, следует разделять колядование как сбор пищи, денег и других даров предкам с ритуальными бесчинствами ряженых. Вероятно, ряженые не во всех святочных обрядах изображали из себя почивших предков, а в каких-то случаях выступали и как нечистая сила или, точнее, некий славянский Трикстер. Моё предположение заключается в том, что колядовщики связаны с культом предков, а ряженые выступают в роли нечисти, как славянского Трикстера.
Наиболее полное определение этого термина приводит Д.А. Гаврилов в статье «Трикстер в период социо-культурных преобразований: Диоген, Уленшпигель, Насреддин»:
«На примере мифологических образов двух эддических богов были представлены следующие основные признаки архетипа Трикстер:
1. Трикстер появляется для нарушения сложившихся устоев и традиций, он привносит элемент хаоса в существующий порядок, способствует деидеализации, превращению мира идеального в реальный.
2. Трикстер – это неподконтрольная никому фундаментальная Сила, результат действия которой непредсказуем, даже для самого Трикстера. Трикстер – это провокатор и инициатор социо-культурного действия и изменения творения, которое выглядит как порча.
3. Трикстер традиционно выступает посредником между мирами и социальными группами, способствует обмену между ними культурными ценностями и переводу информации из области непознанного (Мир Иной, Навь) в область познаваемого (Белый Свет, Явь). Он делает неявное явным, вторгаясь в область неизведанного первым.
4. Трикстер – господин многих искусств, мастер на все руки, иногда спутник культурного героя или сам культурный герой, его проводник, или его тень, тот, кто проверяет претензии героя на Силу и Власть. Трикстер – добытчик знаний через нарушение социального или космогонического запрета, инициатор мифологического действия.
5. Трикстер аморален, с точки зрения существующей этической системы культурного героя. Он стоит на грани мира человеческого общества и первобытного мира Дикой Природы, поэтому с точки зрения социального человека смешон, нерассудителен или бессознателен. Обладает зачастую ярко выраженными чертами соблазнителя – гиперсексуала и обжоры. Склонен к перемене пола.
6. Трикстер – оборотень, перевёртыш, игрок, и для него не существует привычного понятия о жизни и смерти, потому что игра каждый раз может быть начата сначала и в любой момент прекращена. Трикстер не всегда выходит победителем из затеянной игры и может попасть впросак, оказаться жертвой собственной хитрости.
7. Трикстер выступает, как Старый Мудрец с одной стороны и как юнец – с другой, в зависимости от того, каков находящийся рядом с ним культурный герой, чьё чувство значимости Трикстер умаляет».54
Таким образом, ряженые выступают как культурный Трикстер, и эротический характер игрищ, которые они иногда устраивают, не носит мотива ритуального брака с предком, а служит цели возрастной инициации молодёжи, проверки её готовности к супружеской жизни. Именно такую основную цель имеет это ритуальное анти-поведение, которое проявлялось в словах и действиях ряженых и самих участников игрищ.
«В специальной литературе утвердилось мнение, согласно которому эротические обряды и фольклорные тексты являются принадлежностью сферы анти-поведения, магического, по сути, и связанного по происхождению с языческими представлениями о потустороннем мире.
Анти-поведение «соотносилось с календарным циклом и, соответственно, в определённые временные периоды (например, на Святки, на Масленицу, в купальские дни) признавалось уместным и даже оправданным (или практически неизбежным)».
По мнению Б. А. Успенского, эротика в этих народных обрядах коррелировала с иными формами анти-поведения, в частности, с ритуальным ряжением и глумлением над христианским культом».55
Срамные песни и частушки с нецензурной лексикой, которые исполнялись на Купалу, Коляду и на некоторых бытовых праздниках, например, на свадьбе, тоже имели ритуальный характер, смысл которого в раскрепощении молодёжи, снятии комплексов, привитых основной целомудренной культурой воспитания, ради того, чтобы проверить их зрелость и готовность к супружеской жизни, помочь в выборе пары и снять стресс, накопившийся в течение рабочих дней. Напомним, что молодёжь, участвующая в данных мероприятиях, была моложе 25 лет, часто и моложе 20 лет, поэтому нуждалась в такой инициации и проверке на сексуальную зрелость, а при вступлении в брак в таком юном возрасте жениху и невесте следовало пройти раскрепощение и настроиться на взрослую половую жизнь. Видимо, таким целям служили нецензурные частушки и песни, исполнявшиеся на свадьбах.
Даже Топорков Андрей Львович, этнограф, известный своей углубленностью в тему эротики и нецензурной лексики в русской народной культуре, отмечал, что ««срамные» или «охальные» песни исполнялись, как правило, только в рамках определённых календарных или семейных обрядов».56
У срамных (матерных) песен и частушек, употребляемых вне контекста обрядов, где они требуются, есть другое объяснение, и заключается оно в низком уровне образованности некоторой части крестьян.
«Бранятся крестьяне по большей части нецензурными словами и довольно часто. Некоторые из них так привыкли к этим выражениям, что не могут сказать пяти или шести слов без нецензурного слова. Некоторые из них довели эти выражения до виртуозности, про таких у нас говорят: «Вот так молодец, трёхэтажным-то ловко пустил»…
Конечно, не все крестьяне одержимы этим пороком, и в этом обращении их можно разделить на три группы: первая группа – самая многочисленная – это крестьяне, не получившие никакого образования, не умеющие читать, это любители нецензурной брани, и среди них находятся артисты этих выражений, они нисколько этого не стесняются и не стыдятся, особенно в пьяном состоянии, в котором они не знают меры этим выражениям. Вторая группа: это крестьяне, получившие образование, т. е. бывшие в училищах. Они реже первых прибегают к этим выражениям, стыдятся и стесняются женщин, считают неприличным. Часть из них совсем не употребляют».57
Помимо колядования и игрищ, на Святки были очень распространены различные виды гаданий.
Пожалуй, наиболее яркий пример гадания с эротическим элементом – это гадания в бане или овине.
«Гадание у бани. Нелепое, невежественное гадание было в старину в большом ходу; оно состояло в том, что, отворив немного дверь бани, девушки обнажали некоторые части, подходили к двери поочередно и говорили под прикрытием сумрака ночи довольно несвойственную для девушек, и тем более девственниц, фразу с предложением домовому прикоснуться рукой к обнажённой части тела. Если девушка чувствовала руку мохнатую – то предполагался богатый жених в этом году, а холодная голая рука – бедного, шершавая – характерного и пр.
Прочитав о таком безобразном гадании, можно и посмеяться; но, в сущности, можно задаться вопросом, кто был первым изобретателем такого гадания? Почему такие скабрезные обычаи живут и до сих пор на Руси? Неужели родители и родственники не прочь от позволения гадать таким образом своим родным дочкам, да притом у бань, которые всегда бывают на краю деревни, где-нибудь у реки, на краю жилья? Нельзя ли в этом гадании подозревать предлога к тайному разврату?»58
Чуть подробнее этот обряд описывает Д.К. Зеленин: «Севернорусские девушки отправляются в полночь в баню, завернув подол на голову, обнажают ягодицы, пятясь, входят в баню и приговаривает: «Мужик богатый, ударь по ж… рукой мохнатой!»
Если к телу прикоснётся волосатая рука, жених будет богатым, если безволосая и жёсткая, он будет бедным и лютым, если мягкая – у него будет мягкий характер. То же самое проделывают они и в риге. Выбежав из бани, севернорусские девушки голыми ложатся в снег, а назавтра разглядывают свой отпечаток: если на нём окажется след, девушка выйдет замуж». 59
В Вологодской губернии «во время Святок, особенно пред Новым годом, Крещеньем и Ивановым днем (7-го января), весьма распространён обычай гадать, что совершается также разнообразно…
В гаданиях даже доходят до нелепости. Так, идут девушки вечером целой гурьбой в холодную баню. Поодиночке, да ещё вечером ни за что не пойдут: баня, как и церковь, одно из самых страшных мест для суеверного народа. Придя в баню, каждая из них попеременно становится к банному окну заголённым задом, желая узнать, какой будет жених, богатый или бедный. Если покажется, что по голой коже банник погладил мохнатой или шерстинотой (шерстяной) рукой, то это значит, что жених будет богатый, если же, наоборот, банник проведёт по заднице голой рукой, то и жених будет голяк – бедный».60
И примерно так же происходит и гадание в овине: «не отказывает овинник в своей помощи (по части предсказания судьбы) и тем девицам, которые настолько смелы, что дерзают, мимо бань, ходить гадать к нему на гумно. Та, которой досталась очередь гадать первой, поднимает на голову платье (как и в банях) и становится задом к окну сушила:
– Овинник-родимчик, суждено, что ли, мне в нынешнем году замуж идти?
А гадают об этом всегда на Васильев вечер (в канун Нового года), в полночь между вторыми и третьими петухами (излюбленное время у овинника и самое удобное для заговоров).
Погладит овинник голой рукой – девушка будет жить замужем бедно, погладит мохнатой – богато жить. Иные в садило суют руку и делают подобные же выводы, смотря по тому, как её погладит. А если никто не тронет, – значит, в девках сидеть».61
Из данного описания гадания понятно, что мы имеем дело с одним и тем же обрядом, который практиковался в конце декабря во время Коляды или Нового года. И обряд был достаточно устойчивым. А это значит, что девушек реально кто-то трогал за ягодицы во время обряда. Понятно, что если бы девушек никто не трогал, то они довольно быстро потеряли к нему интерес: не велика радость ночью идти к овину или бане, там оголять зад и ждать, пока потрогает овинник или домовой мохнатой рукой. Без галлюциногенных веществ такое бы вряд ли с кем-то случилось. Из этого можно сделать вывод, что ночью девушек за ягодицы трогали парни, которые прятались в темноте бани и ждали там их прихода. Видимо, проводился этот обряд в определённое время. Вероятно, чаще всего на Васильев вечер в канун Нового года.
Моё предположение полностью подтверждает информация С.В. Максимова: «Наш корреспондент рассказывает об одном случае, когда гадальщица, которую схватил парень, спрятавшийся в овине, умерла от испуга».62
Причём этот случай как раз доказывает, что именно коитус был под запретом, но пробуждение женской сексуальности шло через подобные игры. Представим, как это проходило. Девушка шла ночью с подругами, подошла к пустой бане, оголила ягодицы и выставила в тёмное пустое помещение, а её ещё кто-то оттуда потрогал. Причём это делали совсем молодые девушки в 15-16 лет. Таким образом они получали неплохую порцию адреналина. А парням, видимо, много часов надо было там сидеть в темноте. Ночь они, видимо, знали, в которую девушки так гадают, но время же могло быть неточным. Но либидо творило чудеса стойкости, причём не ради самого секса-то, а просто потрогать. И это чудесным образом способствовало брачным союзам. А само гадание имело очень важную роль, так как в те времена практически не было разводов, и за кого девушка выходила замуж, с тем и оставалась на всю жизнь. Так что права на ошибку не было. А ритуальные оголения способствовали своевременному раскрытию сексуальности у девушек и правильному ее формированию у парней.
«Обнаженная натура широко использовалась во время русских святочных игр и развлечений. На посиделки приносили "покойника", который либо был совсем голый, либо прикрыт сетью, рваньём или полупрозрачным саваном, либо был без штанов, с расстегнутой ширинкой, прорехой на известном месте. Девушек насильно подтаскивали к такому покойнику, чтобы они увидели гениталии, заставляли их поцеловать его в морду или в другое место. Иногда сценка заканчивалась «оживлением» покойника, и он плясал голый и пачкал девиц сажей или мелом» (Морозов, Слепцова, 1996: 269).
«В театрализованных сценках «кузнецов» изображали мужики в чём мать родила, «печку» – голый мужик, вымазанный сажей, «рыбаки» представляли лов рыбы в одних панталонах, и т. д.» (Преображенский, 1995: 192-193). «Ряженые мужики и парни не только демонстрировали девушкам свой срам, но и вели себя агрессивно по отношению к ним: били или стегали их пониже спины, тискали, валяли по полу, а иногда даже поднимали за ноги и натирали им снегом между ногами» (Морозов, Слепцова, 1996: 287). Как отмечает М. Л. Лурье, «в общей атмосфере раскрепощённости, возбуждённости, веселья девушки должны были обязательно испытать неподдельные страх, стыд, отвращение и физическую боль» (Лурье, 1995:182).63
В деревне д. Молино Белоозёрского уезда Новгородской губернии (сейчас Белоозёрский район Вологодской области) игра в покойника описана несколько иначе:
«С 6 декабря начинают ходить «кудесами» (маскироваться. – Прим. корр.). Современная молодёжь не может объяснить, откуда явился обычай маскироваться. Самый процесс маскированья очень незатейлив: девицы переодеваются в костюмы молодцов, и обратно. Иногда делают «покойника». Один из парней нарядится покойником: в лапти, в белую рубашку, рожу вымажет мелом – ложится на скамейку. Остальные парни – «попами». Возьмут рогожи или половики и сделают себе подобие риз. Берут мнимые попы этого покойника и на скамейке несут в ту избу, где идёт беседа. Внесут в избу и ложат под образа, а сами начинают петь:
Дивное чудо:
В монастыре жить худо,
Игумны безумны,
Строители – грабители,
Архимандриты сердиты,
Послушники – косушники,
Монахи – долгие рубахи,
Скотницы – до картошки охотницы…
При этом одни из «попов» кадят рукомойником, где наложены вместо ладану табак или куделя, или же просто «калешки» (коневья говна. – Прим. корр.) и горячие уголья. Потом начинают «прикладываться». «Покойник» встаёт после этого и пляшет, или же его уносят».64 Уже, как видно, без явного эротического подтекста, но с сохранением функции культурного Трикстера.
В Мосальском уезде Калужской губернии отмечали, что «молодёжь в данной местности сближается на игрищах и увеселениях, в праздничные дни – на Пасху, на Троицын День, в Петровские заговены, в день Ивана Купалы, на Святках и Масленице, причём единственным средством парню и девушке понравиться друг другу есть со стороны первого настойчивые ухаживания, особое внимание, угощение сладостями и подарками (мелочные), а со стороны последней – внимание и ласковое обращение; суеверий в возможность приворожить, т.е. заставить себя полюбить, теперь уже не существует в данной местности (село Спас-Деменск)» .65
Кроме Купалы, Масленицы и Коляды были и другие праздники, когда практиковались обряды, способствующие сближению молодёжи.
«Особенно ярко отмечался девушками день Кузьмы и Демьяна (день памяти св. Космы и Дамиана; 1/14 ноября), называвшийся в деревнях «кузьминки», «кузьмушки», «Кузьма-Демьян». В жизнеописании Космы и Дамиана говорится, что они жили во II в. в Малой Азии, были врачами и лечили всех нуждающихся бесплатно, за что стали называться бессребрениками. Однако в русской деревне Кузьма и Демьян считались покровителями домашней птицы и брака – «кузнецами свадеб»». 66
«В известном смысле зависимой от календаря была и вся система предбрачных молодёжных отношений, регулируемая сезонными формами молодёжного досуга: посиделками в осенне-зимнее время (по окончании летне-осенних полевых работ – от Покрова, Воздвиженья, Кузьмы-Демьяна до Великого поста; с кульминацией на Святки) и «улицей», «хороводом», уличными гуляниями – в весенне-летнее (с Пасхи и до конца лета, включая или исключая самое время летней страды: с Петрова до Ильина дня). Особое место (у русских прежде всего, но не только у них) отводилось Масленице.
Вместе с тем достижение совершеннолетия и вообще вся добрачная жизнь молодёжи (совместное времяпрепровождение в ходе полевых работ, участие в общественных праздниках и увеселениях, специфические молодёжные формы досуга, многочисленные игры и хороводы, разыгрывающие ухаживания, сватовство, свадьбу) в основном происходили в рамках обособленных молодёжных коллективов («громад» и под.) и в этом смысле были автономны от календарной системы. Эти формы молодёжной жизни, которые современные исследователи называют «игрой» (или «игрой в свадьбу»), иначе говоря, вся добрачная жизнь молодёжи, занимали в традиционном сообществе огромное место. Будучи способом обучения детей и молодёжи межполовому общению, способом их социализации и существенной частью посвятительных церемоний, эти «игры» сопутствовали каждому человеку чуть не с самого его рождения и должны были завершиться (в случае успеха «обучения») свадьбой реальной».67
Эротический подтекст носят и другие игры молодёжи. «В ясные дни на сенокосе парни с девками устраивают всевозможные игры, причём парни не стесняются в своих приёмах и нередко, взявши девушку за ноги, становят её на голову, отчего тело обнажается до груди. Такая картина возбуждает только общий хохот среди всех присутствующих, даже стариков, при этом высказываются в неприличной форме вслух мнения о достоинствах той или другой девушки». 68
Помимо этого были распространены игры с поцелуями, к примеру ««к столбу ходить» – также игра, которая заключается в следующем: какому-нибудь молодцу приходит в голову поцеловать одну из девушек и поговорить с ней наедине; он идёт к столбу, подзывает к себе кого-нибудь из ближайших молодцев и говорит ему: «Пошли-ка вон ту, Анютку, к столбу на пару слов». Посланный молодец подходит к названной девушке и говорит ей: «Ступай к столбу на пару слов». Девушка спешит или нехотя идёт к столбу, разглядывая, какой молодец там стоит, и если он нравится ей, то весело подходит к нему, кланяется и спрашивает: «Зачем изволили звать?» или просто: «Зачем звал?» – «А вот поцалуешь, так скажу», – говорит молодец. Девушка целует его, молодец, не выпуская её из рук, перевертывается так, что девушка становится на его месте; молодец в свою очередь целует её, и если хочет, то шепчется с ней, а нет, так спрашивает: кого из молодцев послать к ней? Девушка или называет, или указывает, кого позвать, и молодец идёт за ним. Новый молодец подходит к девушке, поклонившись, целует, перевертывает её и становится на её место; тогда девушка, поцеловав его, отправляется за той девушкой, которую назвал играющий, и т. д.».69