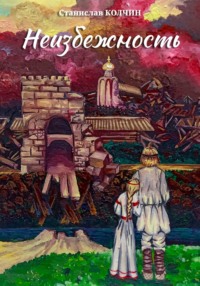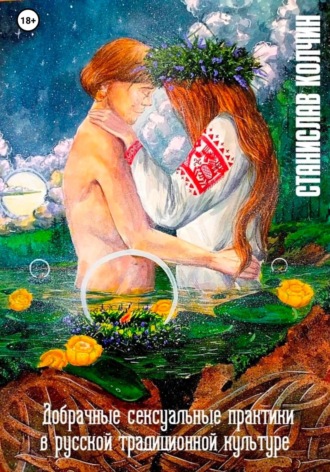
Полная версия
Добрачные сексуальные практики в русской традиционной культуре

Станислав Колчин
Добрачные сексуальные практики в русской традиционной культуре
Введение
Тема сексуальности в русской традиционной культуре до сих пор не имеет однозначного и всеобъемлющего освещения в этнографической литературе.
Не вызывает сомнения, что учёные прошлого были во многом ограничены цензурой и рамками православной морали своего времени, в то время как авторы конца XX века – начала XXI века, напротив, иногда явно перегибают палку в своём стремлении показать традиционную культуру максимально развратной и извращённой, выдавая исключительные случаи за правило. Создаётся парадоксальная ситуация, когда часть современных этнографов начинает отрицать научную ценность работ по этнографии авторов XIX века и описывает быт наших предков совсем не так, как описывали этнографы XIX – начала XX вв. С 90-х годов XX века, после отмены цензуры и контроля со стороны государства, модной стала и сексуальная тема. Нередко можно видеть такую картину, когда в произведениях современных специалистов по этнографии славяне предстают в очень неприглядном свете.
Создаётся ощущение, что подобные авторы целенаправленно собирали в свои произведения много грязи и пошлости, чтобы вызвать у читателя отнюдь не любовь к народной традиции, а скорее отвращение к ней, видна и радость по поводу того, что русская народная культура уже почти полностью ушла в прошлое. При этом такие «прогрессивные» современные этнографы сетуют, что читатель массово изучает не их «опусы», а труды «фантазёров», к которым относят И.П. Сахарова, А.Н. Афанасьева, М.М. Забылина, а также Б.А. Рыбакова. А таких этнографов, как И. М. Снегирёв и А. В. Терещенко, считают неинформативными.
При этом, когда данные авторы связывают любовь читателя к этнографии XIX века с лёгкостью и художественностью изложения, и понимания текста, то они несколько лицемерят.
Тут дело даже не в художественной ценности текста, а в отношении автора к теме написания. В книгах И.П. Сахарова, А.Н. Афанасьева, И.М. Снегирёва, А.А. Коринфского, А.В. Терещенко, М.М. Забылина, А.А. Потебни, Д.К. Зеленина, В.Я. Проппа, а также часто критикуемого сейчас археолога и исследователя славянской культуры и истории Древней Руси Б.А. Рыбакова даже самый неискушённый читатель чувствует любовь к русскому народу, его традициям и культуре. Чего он далеко не всегда ощущает в работах некоторых современных любителей показать самые неприглядные стороны народного быта.
В итоге это приводит к тому, что часть традиционалистов, изучая одни работы по этнографии, считают своих предков целомудренными и высокоморальными, а другая часть, изучая другие труды по этнографии, – развратными и склонными к групповым оргиям. При этом никакой золотой середины между этими крайними позициями не наблюдается. Тема того, как строились отношения между парнями и девушками до свадьбы, остаётся тайной для широких масс, и эта загадка побудила меня поискать ответы в самой этнографической литературе.
«Русский фольклор, как и фольклор других народов, невозможно представить без пласта текстов эротического и обеденного (непристойного) содержания. О важности этой сферы народного творчества свидетельствуют многочисленные издания эротического фольклора и посвящённые ему научные исследования в странах Европы и в США. К сожалению, в России ситуация обстояла менее благополучным образом. Жёсткие запреты на публикацию многих произведений народного творчества накладывались в XIX веке церковной цензурой, а в XX веке – цензурой коммунистической. Целые пласты фольклора, да и народной жизни в целом, оказались как бы вычеркнутыми из действительности, как были вычеркнуты и духовные стихи, заговоры, проблема народной религиозности и многое другое».1
Современный российский фольклорист, литературовед и этнограф Андрей Львович Топорков, в частности, утверждает, что «невозможность публикации фольклорной эротики объяснялась прежде всего цензурными запретами. Однако помимо внешней цензуры существовала и цензура внутренняя». Как отмечал известный собиратель фольклора П. В. Шейн, «кроме правительственной цензуры, достаточно строгой, в среде русского общества… Существовала ещё более строгая, более щепетильная цензура нравов и поступков со стороны влиятельнейших его представителей и законодателей. Этой цензуре все безусловно и безапелляционно покорялись». «Нежелание деревенских исполнителей раскрывать перед заезжим горожанином потайные пласты фольклора помножалось на нежелание самих фольклористов фиксировать всякую «похабщину», теряя время, которое можно было использовать на запись серьёзных произведений, таких как былины, сказки, необрядовые песни. А практически полная невозможность публикации этих материалов и вовсе обессмысливала их собирание».2
Примерно такое же мнение высказывает и советский и российский фольклорист-славист, этнолингвист, доктор филологических наук Татьяна Алексеевна Агапкина:
«Человек, мало-мальски знакомый с современными работами по восточнославянской мифологии и фольклору, да и просто любитель «русской старины», прочитавший известные книги И. М. Снегирёва и А. В. Терещенко и тем более трёхтомник А. Н. Афанасьева, почти наверняка имеет ясное представление о купальских игрищах, масленичном разгуле и разнузданных обрядах, посвящённых Яриле. Вместе с тем исследователь – этнограф, фольклорист или мифолог, однажды столкнувшийся с этой проблемой, чувствует себя не столь сведущим, ибо свидетельства об эротике в весенне-летней обрядности и фольклоре на самом деле весьма немногочисленны и не всегда достоверны». 3
«Сведения, заимствованные нами из источников XIX – начала XX в., практически всегда не столь информативны, как хотелось бы. По тем или иным причинам собиратели и публикаторы обычно воздерживались от изложения наиболее «пикантных» подробностей того или иного обряда; избегали они и обнародования откровенно «порнографических» (по выражению С. Венгрженовского) фольклорных текстов». 4
Своеобразную критику написания работ в соответствии с нормами сексуального поведения в русской культуре прошлого высказывает Н. Л. Пушкарёва:
«Видение сексуальности сквозь призму задач регуляции репродуктивного поведения, устойчивый гетеронормативизм и отрицание нормальности гомосексуальных отношений, жёстко негативное отношение к расширению возрастных рамок сексуальной активности, особенно к ранним сексуальным дебютам, мастурбации – всё это отвечало общему уровню развития не только российской, но и западноевропейской медицинской и научно-гуманитарной мысли того времени.
Если кто-либо из общественных деятелей или ученых того времени и мог выступать с позиций феминизма в вопросе о допущении женщин к высшему образованию или профессиональной деятельности, то в вопросах, связанных с сексуальной сферой, те же сторонники женской эмансипации подчас проявляли себя как сторонники традиционного распределения гендерных ролей и во вполне традиционалистском, патриархатом духе рассуждали о «греховности» или «нравственности» тех или иных проявлений сексуального поведения. Это детерминировало и место истории сексуальности в кругу исследовательских проблем, – как правило, даже изучение добрачной и внебрачной сексуальной активности строилось вокруг тем, связанных с анализом изменений в брачно-семейных отношениях и увязывалось с вопросами популяции/депопуляции».5
Видимо, ввиду своих личных взглядов, Н. Л. Пушкарёва сожалеет об отрицании нормальности гомосексуальных отношений и невозможности выступать с позиций феминизма в сфере сексуальных отношений во времена развитого патриархата традиционной культуры, когда создавались основные труды по этнографии.
У традиционалистов подобных сожалений нет, но для нас вполне очевидно, что нормы, которые приняты в сексуальной жизни, во многом зависят от общего культурного уровня общества, моральных ценностей, взгляда на рамки допустимого в интимной жизни, поэтому в современную эпоху постмодернизма особенно актуальной становится проблема сексуального воспитания будущих поколений.
На данный момент даже само понятие сексуального воспитания нередко подменяется и искажается, а вместо воспитания идёт сексуальное развращение, прививание пороков и сексуальных отклонений. Времена изменились, и мы не можем вернуться к обрядам и традициям патриархального общества, но мы можем проанализировать, как действовала система сексуального воспитания в русском традиционном обществе.
Для начала следует определить, какие именно обряды, традиции и практики мы будем исследовать, и что именно мы имеем в виду под русской традиционной культурой. В исторических исследованиях XIX века под русским народом подразумевали великорусов, малорусов и белорусов. В данной работе я, исходя из терминологии XIX века, отношу к русской культуре не только материалы, которые касаются великорусского этноса, но и этнографический материал по обрядам и добрачным сексуальным практикам малорусского (украинского) и белорусского этносов. Таким образом, русский народ принимается расширенно как общее название великорусского (русского), малорусского (украинского) и белорусского народа, а русская культура как совокупность великорусской, малорусской и белорусской культуры. При этом, работа построена всё же в основном на этнографических источниках, касающихся традиции великорусского этноса, так как материалов об украинской и белорусской традиции мне известно гораздо меньше.
Подробное изучение этнографии началось только в XIX веке, поэтому по более раннему периоду у нас, к сожалению, нет детальной информации о народном быте русских крестьян и подробных описаний их добрачных сексуальных практик и традиций. В связи с этим я использую ретроспективный метод, опираясь на хорошо изученные этнографические материалы XIX-XX вв., и перенося эти знания на более ранний период, пробую понять общую динамику развития народной культуры в целом. Но следует отметить, что народная культура русского крестьянства была очень консервативной, поэтому изменялась достаточно медленно, после реформы Никона существенных культурных изменений государственного масштаба в ней не было, а благодаря существованию старообрядцев сохранилось многое и от народной традиции, которая была до Раскола. Зато под действием различных внешних и внутренних условий появлялись региональные отличия и совершенно разные обряды и практики в разных губерниях (областях), а иногда, даже в разных деревнях одной губернии. Эти отличия я буду выявлять и анализировать. При этом следует обратить внимание на то, что границы современных областей РФ далеко не всегда совпадают с границами одноимённых с ними губерний Российской Империи. К примеру, деревни Тихвинского уезда Новгородской губернии сейчас относятся к Волховскому району Ленинградской области, а деревни Ветлужского уезда Костромской губернии сейчас — к Ветлужскому району Нижегородской области. Во избежание путаницы такие случаи я стараюсь указывать.
Кроме того, подбирая материал для написания этой книги, я старался не подгонять факты под своё миропонимание, не утаивать и не скрывать неугодные и неприятные мне факты народного быта, ибо они всё равно уже зафиксированы и будут приводиться как аргументы и дальше, поэтому нуждаются в детальном изучении, осмыслении, объяснении, а иногда и опровержении. В данном случае нам важно установить истинную картину добрачных сексуальных практик в русской традиции, чтобы не строить на песке фундамент здания о русской национальной культуре, а опираться на реальный позитивный опыт предков, но в то же время не протаскивать в будущее пороки моделей добрачных и семейных традиций прошлого, не повторять их ошибок.
Именно для этой цели нам следует обратиться к материалам этнографии и понять, какой была русская традиционная культура на самом деле, без чёрных мифов и без розовых очков.
Праздничные вольности
Начну свой анализ с изучения материала, который касается игрищ, приуроченных к различным праздникам, и вечёрок. «Праздничных дней в русском быту было довольно много: около 140—150 в году. В это число входили и воскресенья, которые служили регуляторами будничного и праздничного времени. Русские крестьяне шутили: «Сколько дней у Бога в году, столько святых в раю, а мы, грешные, их празднуем». В России традиционно отмечались: Пасха, двунадесятые и великие православные праздники. Большими праздниками считались Ильин день (20 июля / 2 августа), Егорьев день (23 апреля / б мая и 26 ноября / 9 декабря), Николин день (9/22 мая и 6/19 декабря), престольные (храмовые) праздники. К большим, не установленным Церковью праздникам, которые обычно называют календарными, относились зимние Святки (от Рождества до Крещения), Масленица, зелёные (летние) Святки (от Троицы до Петрова дня). Они отмечали главные рубежи в смене времён года и подводили своего рода итоги определённым периодам в жизни природы и людей».6
«В России свободные формы межполового общения молодёжи
практиковались во время посвятительных святочных игр, на масленичной неделе и в постпасхальный (преимущественно троицко-купальский) период. Эти формы досуга и развлечения были направлены на частичное «растрачивание» эротического потенциала молодёжи и подготовку её к будущим брачным отношениям. К числу наиболее невинных стоит, видимо, отнести такие игровые формы с участием молодых людей и девушек, как:
– хлестать друг друга крапивой в Крапивное (петровское) заговенье (Балов, 1901, 134, рус.);
– жалить крапивой девушек, после чего бросать их в воду (КА, Любинцы Стрыйковского р-на Львовской обл.);
– мазать друг друга сажей с помощью головешек от купальского костра (Полесье, Польша и др.);
– вместе качаться на качелях или купаться в реке (притом, что в непраздничное время это расценивалось бы как непристойность);
- бороться друг с другом за обладание купальским деревцем;
– перепрыгивать вдвоём, взявшись за руки, через костер (о.-слав.);
– устраивать совместные трапезы девушек и парней: в Пензенской губ. (Керенский у.) в Семик после гаданий с венками девушки и парни вместе трапезничали в избе, причём каждая из девушек кормила своего парня своей ложкой (Соколова 1979, 205) и мн. др.».7
Наиболее жёсткие высказывания, в которых сравнивает игрища с групповыми изнасилованиями, позволяет себе и Наталья Львовна Пушкарёва — доктор исторических наук, культуролог-антрополог, основоположница исторической феминологии (научная дисциплина, занимающаяся изучением статуса и положения женщин на мировом уровне) и гендерной истории в советской и российской науке, к тому же активная деятельница современного женского движения в России:
«Явления полигинии – сравнительно прочных и длительных связей вне основного, венчанного брака, наличия побочных семей – никогда не смешивались в сознании средневековых православных дидактиков с примерами уголовно наказуемых групповых изнасилований (толоки). Толока, если судить по текстам канонических памятников, зачастую сопровождала упомянутые выше игрища. Эти «компанейские предприятия», да ещё нередко и с обманом, не были, однако, обрядовыми. И всё же «сама теснота, сам физический контакт тел получал некоторое значение: индивид ощущал себя неразрывной частью коллектива, членом массового народного тела». Эти ощущения и переживания были сродни сексуальным, и подталкивали к «всеобщему падению». В то же время в ранних памятниках отсутствовали наказания за блуд «двух мужей с единой женою. И это объяснимо: только на первый взгляд подобная форма интимных связей кажется пережитком дохристианской свободы. При более глубоком анализе они могут предстать (и не случайно именно такими и являются в покаянной литературе XV—XVI вв.) показателем постепенной индивидуализации и сентиментализации сексуальных переживаний, началом признания в сексуальности (разумеется, не дидактиками, а теми, кто «грешил») самоценного аффективного начала. Примечательно в этом смысле, что исповедный вопрос по поводу рассматриваемого нами казуса обращён к «жене» (если она «створит» подобное с несколькими мужчинами). И женщина в этом случае, как мы видим, выступает отнюдь не жертвой, а искательницей «сластей телесных».8
Разберём более подробно этнографические материалы о таких праздниках, как Масленица, Купала и Коляда.
Масленица
«Масленица, один из самых весёлых праздников восточных славян, была когда-то, как и Рождество, посвящена поминовению покойников. Об этом неопровержимо свидетельствует обязательное при этом ритуальное блюдо – блины; кое-где сохранилось и другое блюдо, принятое на поминках, овсяный кисель (Вельский уезд Вологодской губ.). Кулачные бои, которые обычно устраивают на Масленицу, также следует считать одним из элементов поминального обряда» (§ 142). «У русских такие бои в некоторых районах сочетаются с сооружением замка из снега, целой снежной крепости, которую обливают водой. Всадники, штурмующие эту крепость, старались верхом на коне достичь её вершины – сцена, которую изобразил Суриков в своей известной картине «Взятие снежного городка» на Масленицу. Защитники крепости были вооружены розгами. После взятия городка участники игры все вместе устраивали общую попойку».
«У русских поселенцев на Кавказе все девушки деревни, вооруженные длинными палками, влезают на длинную скамью и защищают этот «город». Мужчины верхом на конях штурмуют его, а девушки не пускают их и беспощадно бьют своими палками.
Те, кому удаётся взять этот «город», получают право перецеловать всех девушек». (Станица Вороздинская Терской области Кизлярского округа. – Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа, вып. 7. – Тифлис, 1889. – с. 39—40).
«Костры, которые жгут на Масленицу, причём всегда из соломы и старых вещей, также могут быть связаны с культом предков. Разведение костров в последний день Масленицы, т. е. в воскресенье перед началом Великого поста, обычно называется жечь Масленицу, однако это могло служить и приглашением умерших предков к обильному ужину накануне поста, тем более что существует обычай перед постом не убирать со стола в ожидании покойников.
Такие же костры, которые кое-где разводят уже в начале масленичной недели (ОР РГО, II, 831), доказывают, что дело здесь совсем не в «прощании с Масленицей». Новейшее бытовое толкование этих костров предназначается, прежде всего, для детей: на них-де сжигают ту молочную и мясную пищу, которую уже нельзя больше есть. Другие элементы масленичных обрядов свидетельствуют о том, что когда-то этот праздник совпадал с окончанием периода свадеб».9
«Одним из способов проявления внимания со стороны парня к девушке было приглашение прокатиться с ним на санках. Это называлось «собирать целовники», потому что за катание девушка прилюдно благодарила парня долгим поцелуем. Поэтому губы девушек, пользовавшихся вниманием парней, к концу Масленицы сильно болели. Вообще, во время катания молодёжи с гор проявлялась особая праздничная разнузданность, когда парни могли «задирать девок»: целовать их, таскать, засовывать девушке руки за ворот рубахи, расстегнув шубу, задирать подол и набивать ей снег между ног. Это хорошо удавалось парням в общей свалке внизу горы. Девушки выражали своё возмущение игриво, воспринимая такое поведение парней как знак внимания и завидуя той девушке, которую больше всех валяли в снегу или больше всех сталкивали с горки».10
Бытовал на Масленицу и своеобразный обряд ритуального оголения, описанный в статье К. Э. Шумова и А. В. Черных:
«В масленичном обряде для передачи земле плодородной силы женщины молодуху скатывали с горы, задрав юбку, на голых ягодицах, «чтобы урожай был хорошим»».11
Во время празднования Масленицы «парни и девушки катались с горок парами: девушка садилась к парню на колени, обняв его за шею, чтобы не сорваться с узкой лодейки, или парень сидел, а она стояла сзади и держалась за его плечи».12
Как можно заметить из материалов Д.К. Зеленина и И.И. Шангиной, такие масленичные игрища, как штурм зимнего городка и катание в санках, явно включали в себя целовальные элементы для холостой молодёжи, способствующие её сближению и снятию комплексов. И направлено это было, конечно же, на создание пар. Но есть и другие мнения о масленичной обрядности.
К примеру, В.Я. Пропп считал, что «Масленица есть, как мы видели, преимущественно праздник женатой молодёжи, которую окружают всеобщим весёлым вниманием, тогда как Святки – праздник молодёжи холостой. Холостая молодёжь вновь выступает на сцену в русальную неделю – в праздник весны и на Ивана Купалу – в разгар лета».
«На русальной неделе обращает на себя внимание обряд кумления. Обряд этот записан довольно часто, и основные черты его, при расхождении в деталях, довольно устойчивы. Обряд кумления совершался девушками в лесу после завивания берёзок. Как мы уже видели, ветки берёзок загибаются в круг, так что образуют венки, или венки из берёзок или трав и цветов навешиваются на берёзки. К этим венкам девушки подвязывали свои крестики, затем сквозь венки целовались, менялись крестами и пели песни, содержанием которых является призыв к кумлению. Покумившиеся девушки считаются подругами на всю жизнь или до следующего кумления через год с другой девушкой, или на срок праздника».13
«Иной характер носит другая забава – катание с гор на санках или на бычьих кожах, или на дощечках, которым придаётся приблизительная форма лыж. Это увеселение не связано ни с какими формами состязания или борьбы. Вместе с тем, однако, это и не простое катание, которое могло практиковаться молодёжью и детьми в течение всей зимы. Масленичное катание отличается тем, что в этот день катались молодожёны и что в этом состоял весь смысл увеселения. Время от 6 января до Масленицы в старой деревне было брачным сезоном. В XV столетии январь и февраль иногда прямо назывались свадебными. Пары, которые в этом году поженились, должны были теперь на глазах у всего населения деревни вместе скатиться с горы».14
Несколько по-другому описывает масленичный обряд штурма зимнего городка М.М. Забылин. Правда, это касается Пензенской и Ульяновской областей, а как мы увидим далее, многие обряды имеют очень сильные региональные отличия. «В Пензенской и Симбирской губерниях в субботу на Масленице крестьянские ребята строят на реке из снега род города с башнями и двумя воротами, между которыми сделана прорубь. Игра начинается так: ребята разделяются на две партии – на конницу и пехоту. Конница осаждает город, а пехота защищает его.
Устроясь в боевой порядок, конные по данному знаку пускаются во всю прыть на взятие городка, а пешие, вооружённые помелами и мётлами, стараются маханием испугать лошадей, чтобы не допустить к городку. Но некоторые из конных, невзирая на сопротивление, прорываются сквозь пехоту и на всём скаку въезжают в ледяные ворота, что и значит: взять городок. Победителя купают в проруби; после чего угощают вином всех ратоборцев, отличившихся в пехоте и коннице. Потом, сломав крепость, возвращаются в деревню с песнями».15
Хотя в целом одно не противоречит другому. «Обращает на себя внимание и тот факт, что действующими лицами, исполнителями и персонажами масленичных обычаев эротического характера являются представители всего традиционного сообщества, всех его социо- и половозрастных групп, в то время как, например, в троицко-купальском цикле заметно преобладает молодёжь».16
«На Святках и Масленице во всех славянских традициях имели место праздники, закреплявшие новый статус молодых пар, поженившихся в течение прошедшего года, и тем самым окончательно выводившие новожёнов за рамки молодёжных объединений. И, кроме того, именно во время Масленицы ритуальному и символическому осуждению подвергались те молодые люди и девушки, которые должны были покинуть социо-возрастную группу молодёжи брачного возраста и вступить в брак, но не сделали этого вовремя. Таким образом, к Великому посту и Пасхе в стратификации традиционного сообщества, «приведённой в соответствие» с реальным раскладом социо-возрастных групп, ясно обозначались вакантные места, предназначенные для тех молодых людей и девушек, которые достигли совершеннолетия и могли быть приняты в ряды молодёжи брачного возраста».17