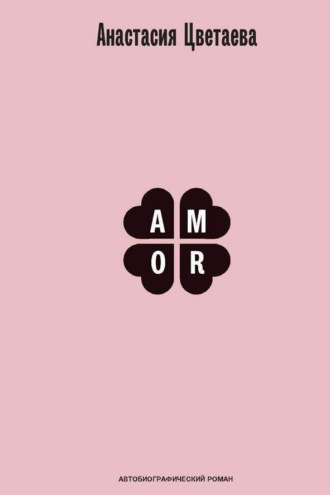
Полная версия
Amor. Автобиографический роман
Анастасия Ивановна на склоне лет утверждала: «Раз ты слаб, преодолей слабость, и станешь сильным. Сила – в преодолении слабости». И уже на пороге вечности, в 98 лет говорила: «В основе человеческого, особенно женского поведения должна стоять высокая нота именно потому, что женщина в страсти событий способна на низкий поступок. Мужчина ещё обдумает его, женщина – нет. Сила состоит в преодолении слабостей, это преодоление и есть высокая нота».
Сохранился пожелтевший, ветхий машинописный отзыв на предпоследнюю редакцию ещё «мирного, нелагерного» «Amor» крупного литературоведа, историка литературы, друга Марины и Анастасии Цветаевых Евгения Борисовича Тагера (1906–1984).
Отзыв
о книге А. И. Цветаевой «Amor»
«Amor» Анастасии Ивановны Цветаевой представляет собой в высшей степени своеобразное произведение.
Действие романа развёртывается в различных пространственно-временных плоскостях, но, в основном, с одной стороны, в суровых условиях социалистической стройки в Сибири 1930‑х годов, а с другой – в Крыму первых лет революции, на фоне драматических событий ожесточённой Гражданской войны. Правда, историческое бытописание отнюдь не является целью автора; тем не менее социально исторический колорит времени очерчен, хотя и скудно, но достаточно выразительно.
В соответствии со своим названием роман строится как своего рода анатомия чувства любви. Перед читателем проходит целая серия психологических этюдов, демонстрирующих разнообразные типы любовных отношений. Банальные, ординарные и поражающие своей необычностью, обнажённо-чувственные и предельно одухотворённые, откровенно эгоистические и героически самоотверженные, эти любовные связи всё время сопоставляются и противопоставляются друг другу. Нельзя не отдать должного мастерству и утончённости психологического анализа Цветаевой. Ещё важнее, пожалуй, то, что в итоге вырисовывается яркая и запоминающаяся галерея исключительных личностей, со сложными характерами, парадоксальными судьбами.
Роман вобрал, по-видимому, много автобиографического материала, в нём фигурируют подчас реально существующие лица, например поэт и художник Максимилиан Волошин. Это придаёт книге А. Цветаевой, автора широко известных мемуаров, дополнительный интерес.
Следует отметить, впрочем, и наличие некоторых повторений, объясняющихся тем, что написанный много лет назад роман был утерян, а когда уже в наше время текст вернулся к автору, оказалось, что необходимо заново воссоздать ряд пропавших глав и страниц. Отсюда, вероятно, и встречающаяся порой растянутость изложения. Поэтому перед печатанием полезно было бы подвергнуть роман внимательной авторской редактуре и некоторому сокращению.
Евгений Тагер
24.1.1978
В последней авторской редакции роман очень и очень существенно сокращён, как и советовал Е. Тагер. Однако можно надеяться, что и та, очень обширная, отягощённая перепиской героев, многими дополнительными сюжетными линиями, первоначальная редакция книги также будет когда-нибудь найдена, должным образом исследована и опубликована. И это будут не «Руины романа», а своего рода «Пра-Amor».
«Amor» – это ещё и уникальный для мировой литературы опыт аналитико-психологической прозы. В письме к Е. Я. Эфрон, сестре С. Я. Эфрона, А. И. Цветаева 12 ноября 1943 года пишет: «Роковая привычка всё анализировать (о которой М<арина> в 1921 г<од>у, когда я бедствовала, болела, нуждалась и боялась, что заболеваю психически, говорила: „Ася никогда не сойдёт с ума – она будет анализировать своё состояние, и это спасёт её“)» (Нева. 2003. № 3).
«Amor» – книга привязанностей и чувств к людям – чувств сложных, болезненно пылких, рвущихся через преграды одиночества. Одновременно это книга потерь и омутов тоски по воле, и эту тоску преодолевает героиня, бросаясь кому-либо на помощь. Познавая героя, она подсознательно стремится к познанию себя – ей нужно не только ради Морица оживить своё прошлое. И в этом смысле, по большому счёту, роман предстаёт перед нами как ретроспективный «мемуарный дневник», написанный мастером автобиографического жанра, создателем и романа, и большой семейной хроники – её известных «Воспоминаний», – и ещё целого ряда книг…
В приложении к дополненной, новой для читателя редакции текста публикуются стихотворения А. Цветаевой «Из тетради Ники», которые были написаны для романа или во время его создания. В полном, законченном виде многие из них нигде не публиковались. Это также придаёт особую ценность изданию.
В новом издании романа представлен именно тот текст, который А. И. Цветаева хотела бы видеть опубликованным. Мы несколько лет готовили «Amor» в печать. Ныне в основной текст возвращены вынужденно сокращённые фрагменты как лагерной линии, то есть рассказы главного героя, Морица, Нике, так и фрагменты «крымской» линии, психологически ёмкие, биографически для автора значимые. Необходимо было на всём поле повествования сохранить и неповторимую драматургию цветаевских акцентуаций – курсивов, разрядок, летящих тире. То своеобразный след Серебряного века. Понимал это и покойный Анатолий Михайлович Кузнецов, биограф М. В. Юдиной, который вместе с нами работал над выпуском романа в журнале «Москва» (1990, № 2–5). Он очень радел о сохранении этой авторской неповторимости.
Дворянское собрание Юга Украины присудило Анастасии Ивановне Цветаевой за роман «Amor» литературную премию 1992 года. 9 марта 1992 года предводитель собрания князь Владимир Владиславович Аргутинский-Долгорукий торжественно вручил Анастасии Ивановне диплом премии в Итальянском дворике Государственного музея изобразительных искусств имени А. Пушкина, основанного И. В. Цветаевым. Деятельное участие в организации этого события, вызвавшего широкий резонанс в российской и зарубежной прессе, приняла директор ГМИИ Ирина Александровна Антонова. Она выступила на вручении. Выступили также поэт Б. А. Ахмадулина, сын Анастасии Ивановны Андрей Борисович Трухачёв, журналист и историк В. В. Соловьёв, несколько слов сказала и лауреат. Это была единственная литературная премия, полученная писательницей за всю её долгую жизнь…
Анастасия Ивановна называла «Amor» – «мой слоёный пирог». В его пропёкшихся в раскалённой печи эпохи слоях «запеклись» тени реальных людей, тех, кто жил, чувствовал, любил. Их всех давно нет на свете. Однако в романе они вновь оживают, вновь ждут, чтобы о них узнали и пожили вместе с ними в их безвозвратном, седом, серебряном времени…

От автора
Посвящаю эту книгу Ольге Яковлевне Этчин
Роман «Amor» насчитывает от рождения полвека. И пути, которыми ему пришлось идти, необычны настолько, что требуют о себе рассказа.
О главном герое была задумана поэма, но она медлила, претерпевая сомнения и затруднения, и наконец была заменена – романом, иначе говоря, «Amor» родился из поэмы. Он рос, разгораясь, как одинокий костёр в лесу, с конца 1939 года, быть может, и был вчерне кончен в первые дни войны, в 1941‑м…
Он писался на Дальнем Востоке, в зоне, в часы отдыха, после десятичасового рабочего дня, на нестандартной бумаге, на маленьких листах, чернильным карандашом, так мелко, что прочесть его не смог бы никто, кроме автора, – и то по его близорукости.
Автор маленькими пачками передавал его на прочтение, и, прочтя очередные листы, её начальник по работе через вольнонаёмного пересылал, в письмах, в Москву, где он пролежал до дней освобождения автора, до 1947 года. Получая его (уже в Вологодской области, где работал сын) из рук родственницы, приехавшей из Москвы, автор с удивлением заметил, что в нём не хватает целой, отдельной части, которая была задумана позже как вводная, тем помогая рукописи стать романом многоплановым. Возникла эта часть волею автора, чтобы – простой человеческой ароматностью противостояла слишком отвлечённому, интеллектуальному стилю вещи. И вот этой части – не было. Но ларчик открылся просто: часть эта по недостатку бумаги была написана на папиросной, отделявшей листы чертежей, с которыми я имела дело. В те годы такая бумага, годящаяся для курения, была драгоценна: «ароматную» часть выкурили всю, без остатка.
Остальная рукопись (простая бумага) уцелела. С грустью осознал автор неудачу своего предприятия: без этой части «Amor» перестал быть романом, делаясь одноплановым. И автор переименовал его в «Руины романа». Было написано маленькое предисловие – о трудных годах для курильщиков, им в извинение, но казалось оно выдумкой, неудачным авторским изобретением, литературным трюком…
Усталость прожитого не в домашних условиях десятилетия помешала в 47–48‑м годах заняться романом – да и кому отдашь в перепечатку такое, кому доверишь? И пачка мелко исписанных карандашом листов, «Руины романа», – укромно ждала будущего. Оно не замедлило. Но тут отступление.
В ссылке («навечно», но прожила там семь лет) я не писала, «Руин» не трогала, огород отнимал силы (об этих годах в моих «Сибирских рассказах»). С 1957‑го начала «Воспоминания» (в 1959‑м реабилитировалась). Растила двух внучек, учила их языкам. В 1968–1969 годах переписала «Руины» на большие листы крупным почерком. Только в 1972‑м, когда младшей внучке было пятнадцать, у меня выпало свободное время, и я раскрыла рукопись, которую не перечитывала с 1941‑го. Я сказала себе: «Перечти!» Перечитала и одобрила. Написала и вставила в «Руины романа» новые главы – вместо выкуренных. И вновь стал «Amor», и дожил до нынешних дней.
Вместо пролога
Сумерки падали, медленно обволакивая стройку тою глубиной предвечерней синевы, о которой так точно сказал Байрон: the clear obscure («светлый сумрак»? – по-русски).
Отложив рейсшину и ватман, высокий человек в спецовке встал. Его голубые глаза веселились. На часах было шесть.
– Как, «спуск флага»?! Евгений Евгеньевич, уже?
– Объявляю «спуск флага», – церемонно и патетично возгласил тот и широким движеньем длинной руки распахнул дверь из бюро в соседнее помещение… Мигнув, электричество погасло. Так в последние дни бывало часто – что-то чинили на электростанции. Спорили, пить ли чай впотьмах или зажечь лампу, браня на чём свет – монтёров. Узнавали друг друга по голосам. Срочная работа на гидростанции X-строя сегодня задлилась. Засветлевшие на фоне тёмных стен окна вспыхнули абрисом далёких белков, серебрящихся фоном весенней долины, тонущей в синих сумерках.
– Знаете, товарищи, что я услыхал сегодня? Как нас называют? – сказал тот же человек. – Нашу проектную группу? «Дворянское гнездо»… Здорово?
– Где, на вахте? – отвечала средних лет женщина. – Или в зоне?
– Ника, вы возвышаете уровень наших вахтёров! Неужели вы думаете, что они читали Тургенева?
– А вы знаете, Евгений Евгеньевич, где я – это довольно интересное совпадение, – где я читала недавно это самое «Гнездо», притом – по-немецки? Ни за что не догадаетесь! В Бутырках! «Das Adelsnest». В чудесном переводе!
– Что вам, как специалисту!..
– Бросим о прошлом. Моё будущее, дай бог, чтоб было – арифмометр… – ибо не знаю прочности нашей группы. Сейчас придёт Мориц с – опять срочной работой!
– Мориц – в Управлении, – отозвался у окна сидящий, наклонённый над рейсшиной молодой человек. – Он занёс работу и ушёл.
– Отлично, – сказала женщина, – я пока постараюсь докончить вчерашний перерасчёт, – так устала вчера, могла ошибиться…
– По десять часов считая – очень просто… – Евгений Евгеньевич обернулся к той, которую назвал Никой. – Вы, по-моему, сможете отдохнуть за нашим уроком черчения, когда будет свет… – вы рисовали, это вам несколько родная область…
– Но нашему уроку помешает – срочная…
– Да, к сожалению, помешает…
Лунный луч пересёк комнату, чертёжные столы. Была весна 1938 года. Евгений Евгеньевич сел на стул у чертёжного стола. Горела свеча. Ника села рядом.
– Продолжим?
– Мы остановились на куклах, не так ли? Я очень любил играть в куклы…
Шаги по мосткам. Дверь распахнулась. Метнулись электрофонари в руках входящих людей. Зычный голос крикнул:
– Поверка! Встать! Тут пересчитаем!
При свете фонариков и свечей люди становились в ряд. Два вахтёра что-то отмечали в своей записи, прикреплённой к дощечке. И уже выходили, кидая дверь и тени, скользящие по стёклам.
Евгений Евгеньевич снова раскрывает, как книгу, рассказ:
– Я очень любил играть в куклы! И больше всего меня прельщали не сами куклы, а аксессуары кукольного обихода. Мебель, посуда… У меня была крошечная лампа с матовым абажуром, молочно-белым, зажигавшимся, как игрушечная луна. И я, как Гулливер в стране лилипутов, жил среди этих драгоценных предметов рядом со скучной жизнью взрослых, скрывая от них им непонятный накал моей мальчишеской жизни, за которую они – узнай они её – стали бы, может быть, даже преследовать меня – за неестественное моему полу и возрасту времяпрепровождение. Эту микроскопическую лампу я любил, кажется, больше всех тех таинственных сокровищ, она была для меня не менее реально-волшебна, чем лампа Аладдина, о которой повествовалось в толстой книге.
Дверь снова с шумом распахнулась: на фоне слабо освещённой двери – в соседней комнате тоже горела свеча – стоял небольшой человек в короткой меховой шубке. Мальчишеское было в нём, в его позе – на чей-нибудь материнский взгляд, и именно в том, как стоял, с таким независимым видом, исключающим даже тень интимного отношения к себе. Он снял шапку, голова оказалась – или так причудилось от стоявшей сзади свечи, обводящей её светом, – седой. Снял, повесил на вешалку шубу и вернулся неожиданно худым, элегантным человеком во френче, бриджах, гетрах. «Мориц!» – отозвалось в Нике.
И только тогда заметила, что перестала слушать Евгения Евгеньевича, – но тотчас же поняла, что рассказчик прекратил рассказ.
– Давно погасло электричество? – спросил вошедший громким низким голосом, чуть резковато, по-французски произнося «р». – Свет сейчас будет, я заходил! Виктор, – бросил он в глубину комнаты, – нам надо с тобой просмотреть твои чертежи! Раздел докончен? Медленно, медленно… Завтра – последний срок!
– Свет! – крикнул Евгений Евгеньевич, вставая.
Рейсфедер с туго зажатой каплей сиены только готовился начать вдоль рейсшины свой ослепительно острый путь, когда электричество снова погасло.
Тогда раздался тихий, счастливый смех Ники.
– Это я захотела, чтоб снова темно, – шепнула она, наклоняясь над плечом Евгения Евгеньевича, и – уж совсем тихо, чтобы не услышали другие: – Чтоб дослушать!
– Прямо Вивиана какая-то, – шутливо вздохнул тот, в полутьме вытирая рейсфедер.
Ника наслаждалась:
– Слышите, как сверчок ворчит? И откуда здесь сверчки?
– Безобразие! – неистовствовал Мориц, зажигая свечу. – Срывают работу! Я им покажу, как нас оставлять без света!
В эпической позе Евгения Евгеньевича, сидевшего, скрестив на груди руки, вытянув длинные ноги, откинувшись на спинку стула, – женский глаз уловил подобие вызова. Эти два человека с трудом выносят друг друга! Но сдержанность Евгения Евгеньевича делает невозможным – эксцессы! Она угадывала. Дело было сложнее: в нерадении его не мог упрекнуть Мориц, он просиживал глубоко в ночи над своим изобретением, но то безразличие, может быть, напускное, которое проявлял к погашению света, не могло не раздражать Морица.
– Представитель едет утром! – прозвучало угрозой. – Сейчас приведу сюда этих сукиных сыновей…
Пили чай при свече.
Кто-то зевнул устало.
– Кого он сюда приведёт?
– Да монтёров, кого… Чай остыл! Кто не пил ещё?
– Безобразие! в самом деле… Ночь из-за них опять придётся сидеть! Только развернули с ним чертёж…
– Рвёт и мечет! Это характер такой!
– Опять срочная работа! – вздохнул кто-то уставший.
– У Морица всегда срочная работа! Не умеет спокойно работать!
– Рассказывать будем, Евгений Евгеньевич? Скорее! – звала из соседней комнаты Ника. – Я подложила в печь дров, уютно…
– А начальник-то наш так и не кушал, – по-стариковски сетовал дневальный Матвей, старичок с Урала. – Зашёл я к нему – как поставил на стол, так и стоит… Туда шёл, встренулся мне. Я им сказывал – ужин, мол. Не слушает! Без пищи живёт человек!
– И говорят, чахоточный! – бросила, как в печь ветку кедра, Ника. – У меня, Матвей, от неё брат умер… тоже вот так… ничего не хотел есть.
Хором:
– Глупость это!
– Привередничать нечего! Не дома! Лагерь! Что мы, хуже его?
– А в наших местах – собачье сало едят! От чахотки.
– Будет он тебе, Матвей, есть собачье!
– А спит он когда? Честное слово, когда ни проснёшься – он или курит, или читает.
– Или пишет…
– А что он пишет? Сочинения? Донесения? – кто-то, в вынужденной праздности, позволяя себе пошутить.
– Что, что! Мало ли что можно писать… – веселится чертёжник Виктор.
Ника молча поворачивает к нему лицо.
– Заявления пишет.
Виктор мгновенно свёртывает веселье. Заявления, вопль о своей судьбе туда, на волю, – может быть, прочтут и прислушаются! Кто же их не писал! Но – сколько людей – перестали.
Евгений Евгеньевич кончал набивать трубку.
– Что в нём удивляет, – сказал кто-то о Морице, – это его поведение, то есть – ведь он имеет успех у женщин вольнонаёмных, но… безответно. Он давно женат, я видел портрет, жена его, между прочим, исключительно интересная женщина!
Тут Ника возвышает голос. Он играет, как огоньки в печке.
– А почему вы сказали «между прочим, интересная женщина»? – иронизирует она. – Это как-то невнятно!
– Нет, я просто так!
– Но вот, действительно, даже себе невозможно представить: Мориц – и роман с женщиной!
Нике отчего-то хочется – чтобы не поняли её отношение к Морицу. (Она сама не понимает его.) Она слышит чей-то ещё незнакомый голос, подающий ироническую информацию:
– Он от одной спеси не свяжется с женщиной! Чтобы про него, как про всякого смертного, не сказали, что он завёл себе бабу…
– Евгений Евгеньевич, – говорит она, – если вы не будете мне сейчас рассказывать – я ухожу – и приду, когда будет свет!
– Иду!
Нике нравилось, что Евгений Евгеньевич не принимал участия в таких разговорах.
В бараке, в котором помещалась проектная группа, было действительно уютно от квадрата раскрытой печки; раскалившиеся сучки кедра кидали на стены и стол тёмно-янтарные, пляшущие куски света.
– На чём мы остановились?
Он пододвинул к себе стул, сел, попыхивая трубкой. Её огонёк был почти малинов. И Ника отметила, с привычным наслаждением наблюдения, разницу этого цвета с цветом печного огня. Она не села на подставленное кресло, а, подложив на пол газету, устроилась сбоку от печки, чтобы видеть огонь, не перегреваясь.
– На кукольных аксессуарах? – Голос рассказчика в начале рассказа – холодноват, далёк. Его мысли были в одной трудности изобретения…
Но ему не пришлось рассказывать – вспыхнул свет.
Часть I
Не у себя дома. Друзья и враги
Глава 1
Знакомство
Знакомство с Морицем и у Евгения Евгеньевича, и у Ники произошло в этапном, из Москвы, поезде; ехали вместе семнадцать дней (четыре из них поезд стоял из-за метели: один день в Москве, другой в Чите, где была пересадка, и два дня – прибыв на место).
К Морицу в пути она была повёрнута больше всего его знанием английского и французского – на последнем шла беседа у Морица с Евгением Евгеньевичем, знавшем французский с младенчества. Именно в дни первых бесед стала ясна Евгению Евгеньевичу основная разница их типов и убеждений: в то время, как он был продукт старинного воспитания и мышления, Мориц был предельно современный человек, атеист, пылавший сердцем ко всему новому, – отчего так особо горек был ему отрыв от московской работы, незаслужен, непонятен, немыслим!
Но, прибыв на место, он тотчас же снёсся с начальством, предложив свои услуги, и помог основать проектно-сметную группу, в короткое время наладил связь с представителями строительных предприятий. Это ускорило темпы работ. План перевыполняли. Начальство оценило опыт, энергию, европейский уровень образования Морица. Его взяли в Управление, куда, встретясь с Никой, втянул её, сняв с физических работ, проведя через актировку – на медицинской перерегистрации физических сил заключённых.
Был час перерыва.
– Введу вас в курс работ, – сказал Мориц. – Иначе вы будете у нас – как в лесу… Но не из лёгких моя задача – так вы, Ника, далеки от всякой техники. Мы здесь работаем на гидроработах. Строительство. К заданному сроку вся долина, где мы с вами находимся, станет водохранилищем. Я постараюсь вам начертить, насколько могу элементарно, именно для вашего понимания, план нашей стройки. И вам на днях его передам – чтобы вы увидали… Обозначу, где деревянный деривационный трубопровод (длиной он примерно тринадцать километров), где напорный бассейн, где два стальных напорных трубопровода.
– А как строятся вообще гидростанции? – спросила Ника.
– Прежде всего, они строятся на больших реках – где огромное количество воды: Ангара, Енисей, Волга – плотины сравнительно невысокие, напор – небольшой.
Он, видимо, подбирал простейший способ изложения сути – как ребёнку.
– Мощность гидростанции определяется произведением секундного расхода воды на величину напора, так что можно строить и иначе, воды немного, но с огромным напором. Бывают гидростанции и горные (деривационные, с транспортировкой воды), и речные. Можно захватить высоко в горах воду и подвести её к турбинам по трубам с напором; тогда маленький расход компенсируется большим напором. Но беда, что воды весной много – таяние снегов, а летом её мало. И вот гидрологи и гидротехники регулируют сток реки. Они строят плотины и создают водохранилища, чтобы, зарегулировав годовой сток, давать так называемые рабочие попуски в течение года. (Так работает гидростанция целый год.)
Он прошёлся по комнате, руки в карманах. В удержанном им жесте была явная скука. Но он взял себя в руки и продолжал:
– Течёт река; чтобы её остановить, надо построить запруду, плотину. Но нельзя всю реку закрыть, вода нужна людям, живущим по её берегам, ниже плотины. Во-вторых, ту воду, которую задержат в водохранилище… – Видимо, он на минуту задумался, потому что Ника перестала понимать и не показалось ей связи в его словах. – Нужно – давать рабочие спуски. Обычно при плотине есть водосбросные сооружения (это может быть туннель), через которые идёт сброс воды.
Стуча в дверь, вошёл прораб.
– Я за вами, – сказал он Морицу.
– Пошли, – отозвался Мориц. И как ни была готова Ника к его резкости, её удивило всё же, что он вышел вместе с прорабом, даже не оглянувшись на неё.
Барак, в котором помещалась проектно-сметная группа, состоял из двух больших комнат: рабочей, со многими столами, чертёжными, меньшими, на которых стучали арифмометры, – и смежной, где жили работники. По рисунку Морица туда были заказаны – каждому – шкафчики с полками для белья и личных вещей. Днём шкафчики закрывались наглухо вертикальными крышками, вечером же эти крышки выдвигались горизонтально, опираясь на низенькую скамеечку, тем образовывая кровать. На неё стелился тонкий матрасик, на нём – постель. Такое изобретение давало большую экономию места – днём была пустая комната с узкими шкафами по стенам, вечером же между кроватями можно было пройти, – позволяя сесть, раздеться, не мешая друг другу, восьми живущим. У одного из окон стоял стол, куда в часы обеда ставились кухонное ведро с супом, тарелка с пирожками с капустой или кусками солёной рыбы и кастрюля с кашей, вечером – одна каша и тарелка с остатками хлеба и неизменный чайник с кипятком. После еды дневальный мыл и уносил оловянные миски. Все работники группы получали выхлопотанный Морицем в Управлении ИТР – повышенное питание инженерно-технического персонала, что вызывало зависть тех заключённых, что жили в обыкновенных бараках.
Со стороны торца была дверь в небольшую комнату – женскую, где было всего четыре топчана – двух уборщиц, кухонной работницы и Ники, работницы Управления. Но так как часы работы её и других женщин совершенно не совпадали, и это отражалось на часах сна Ники, Мориц, после долгих и упорных хлопот, добился разрешения в уголке женской комнаты построить отдельную кабинку для Ники – где поместился топчан, маленький столик перед окошком и – что тоже вызвало зависть, насмешки, подшучивание – фортка в окошке и скобка для висячего замка на узенькой дверке, отделявшей Никины часы отдыха, зависевшие от срочной работы, – от нормированного сна работниц хозобслуги.
Впрочем, по опытности немолодой уже Ники, отношения её с женщинами довольно быстро уравновесились и всё более с каждым днём теряли признаки «классовой» розни. Прошло ещё несколько недель – и, ввиду материнского к ним отношения Ники и её заметно более старшего возраста, работницы хозобслуги стали, одна за другой, её дочерьми, поверяя ей свои женские горести, обиды от поваров и помпобыту и семейные огорчения, черпанные из редких, но всё же приходивших писем из дому. Огорчение же Ники – непонимание её сожительницами внешнего облика и – барского, на их взгляд, – поведения Морица – ей делить было тут не с кем. Даже Евгений Евгеньевич в этом не был другом, так как сам не понимал и не выносил Морица.

