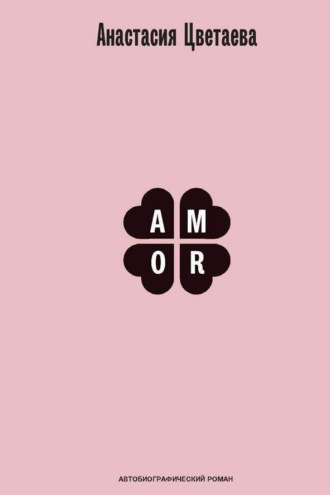
Полная версия
Amor. Автобиографический роман
Теперь попытаемся стать на точку зрения Морица. Что творилось в нём, когда он прочёл полные любви стихи Ники? Как бы ни было её признание подготовлено откровенным общением, оно всё равно неожиданно. Он растерян, как был бы растерян на его месте любой человек, даже ещё большей душевной и умственной высоты, поставленный перед чувством, которое он не может разделить. Отсюда в нём, столь логичном обычно, возникают противоречия. Он говорит с ней, и слова его сплетаются из растерянности, вызванной Никиным признанием, высказанным в обращённых к нему стихах. В нём поднимается, что для него очень характерно, ещё и гордость, заставляющая его думать о «роли», открывая в нём аварийный клапан защитной реакции.
Однако вспомним вновь тот момент, когда он расслабился и стал лиричен и как-то разнежен, не жесток, как обычно. Как тогда отшатнулась от него Ника, то же самое было бы и сейчас, если бы он на миг, ответив на поэтически выраженное чувство душевной приязни, упал в крайнюю ласковость, изменил бы себе, – запели бы фальшивые скрипки мелодрамы, и Нике стало бы тоскливо и скучно. Ника, в которой разум часто повелевает встающими из глубин чувствами, не позволяет возобладать в себе женщине. Не будем забывать, что в чашу её любви была подмешана слеза жалости к Морицу – к его смертельной болезни… В этом в ней и побеждала любовь в духовном смысле, побеждал amor…
Amor в смысле любви к ближнему в духовном, высоком значении этого латинского слова тем более побеждал, что, подробно, интимно рассказывая о себе, Мориц невольно «вводил Нику в себя», тем делая её дружески к себе ближе. Она стала своеобразной поверенной его жизни. Не будь у него к ней уважения и симпатии, не стал бы он рассказывать да ещё и спорить с Никой, подчас оправдывая (!) себя, порой почти как перед судьёю.
«…Но продолжение рассказа было теперь для него неизбежностью, хоть он не сознавал этого. Он отплывал в своей шлюпке в себя, один его голос расшивал узорами пустоту. Мориц в рабочем кресле сидел с природной родовой грацией маленького лорда Фаунтлероя. Он рассказывал не себе: поверив в её внимание, он делился, может быть, вербовал душу? Властной рукой он приподнимал завесу лет. Он глядел на неё уже почти добро. В руке щёлкнул спичечный коробок. Он закуривал».
В то же время он не раз предупреждал Нику, чтобы она не сотворила себе кумира, поэтизируя его образ для поэмы, он раскрывал перед ней и отрицательные свои стороны, уводя от идеализации, снимая с лица «вуаль» таинственности, неразгаданности, которые Нику столь притягивали. Мориц говорит, что в нём «нет ничего загадочного», что он «иногда бывает пуст от всякой душевной жизни». И он слышит, несмотря ни на что, навстречу ему настойчивый голос Ники, не смиренный, требующий от него большей душевной высоты. Однажды она прямо говорит ему:
«– Но вы – в аберрации: вы слабостью считаете свою силу. Вы думаете, что вы поддались слабости, вы с нею боретесь, с душой вашей! А надо за неё бороться! Вы не понимаете, что ваша душевная жизнь инертна, что у вас – от раза до разу – „как выйдет“… Не планированное строительство! Десятников не там расставляете. Прораб у вас – жуликоватый, со схоластическим образованием – тут и теория относительности путается… Вообще, Мориц, какой человек бы из вас вышел, кабы вы…
Но Мориц, туго улыбаясь, кидал за собой дверь».
Ника пыталась осмыслить в себе – зачем она зовёт Морица выше, зачем входит в его душу, зачем стремится уберечь от падений, от «бездн»? Духовное начало в ней настолько выше чувственного, по самой высшей природе любви – возлюблен ею человек сам по себе, безотносительно к чувству, которое она как женщина в романе к нему испытывает. Ей не столь важна взаимность. Ника полюбила в нём не только то, что есть, но то, чем он может быть. Свет её мечты своими лучами касается души Морица, греет её заботой…
«А ты? – спрашивает её кто-то, – после того полёта, в котором прошла твоя юность и часть зрелости, – как же ты вошла в эту, чужую же тебе, бездну, в душу этого человека? Он же ранит тебя каждый день, в нём нет той „высокой ноты“, которая тебя звала от рождения (тебя и всех героинь книг, которых ты любишь, ты же – не одна!..) Нет в нём? – отвечает она смятенно. – Почему же как только я хочу от него оторваться – он предстаёт опять Кройзингом, героем „Испытания под Верденом“? Почему же бьюсь о него как о стену – и не ломаю себе на этом крыльев, – ращу их? Да разве оттого я не оставляю его, что мне что-то в нём надо? Не за его ли душу я борюсь в смешных рамках этих поэм-повестей? Не его ли душе служу, не её ли кормлю – в страхе, что вдруг оступится в какие-то бездны, где возомнит себя – дома? Не для того ли зову его к ответу за каждую не ту интонацию? Господи Боже мой…»
Находясь в самом горниле противоположностей «Amor», подходим к разгадке одной из его тайн, раскрывающих источник силы романа. Если абстрагироваться от образов в мир идей, мы увидим, что стали свидетелями столкновения двух начал почти космических, мужского и женского.
Женское предстаёт воплощением душевной жизни, эмоциональности, тонкой восприимчивости, сдержанной, лунной страстности. Мужское – воплощением силы, энергии, действия, воинственности, отнесённой символически к древнему богу римлян Марсу. Мужчина по сравнению с женщиной менее эмоционален. И роль женщины – эманациями своей тонкой души пробудить в мужчине дремлющие душевные силы. В молодые годы бывает так, что одного появления женщины достаточно, чтобы эти силы зацвели огнём вдохновения, щемящего чувства. Но… Опять это «но» возвращает нас к роману, к письменам тайнописи чувств. В том-то и тонкость, что Ника в отношении к Морицу ведёт себя не вполне по-женски. В романе прямо не говорится о том, что героиня связана обетом, прямо, подробно и исповедально не говорится о её вере в Бога, как верила автор романа, прототип Ники. Не много говорится и о её самоограничениях. Однако история с Женей Сомовым в главе «Испытание юностью» говорит об этом неженском волевом начале, что свойственно героине, которая уже не стремится к слиянию с героем, у неё уже иная, охранительная, почти материнская роль…
Импульсы игры в Нике мужского аналитического ума настораживают Морица, отталкивая его от неё как от женщины. С редким психологическим мастерством писательница описывает состояние героини, противоположное той любви, которая есть стихия, страсть, прилив бури, а не раздумчивый поиск глубоких мыслей и чувств – сетями по дну души…
Наклонимся вновь над страницей романа: «Мориц читает стихи Ники… Это был для неё момент большой важности. Но, преодолев первый миг, – морщины его лба – она сразу сошла с подмостков Дузе – лёгкой ногой… Ника была совершенно спокойна. Точно дело шло не о ней. Она видела его наклонённую голову, сейчас он её подымет, дочитав последнюю строку. Он, конечно, не будет знать, с чего начать, учитывая её волнение. А этого волнения – нет! Испарилось. За это она так любила „Дым“ Тургенева, дым от огня. Дым, испарение огня, пар, в облако уходящий… В ней было любопытство. Сознание юмора минуты. Ответственность за совершённое. Холодила – или грела – непоправимость. Безвыходность положения их обоих! И – и дружеское участие к нему и, конечно, немного иронии. Большое переполняющее чувство достоинства – именно тем, что оно ею так сознательно было попрано, давало ей ощущение горького счастья».
Как видим, в Нике женственность переплетена с мужественностью как чертой характера. Она – мужественная женщина. И тут свет догадки озаряет мглу, где ходят «желаний тёмных табуны». Ника и Мориц, они в чём-то глубинно похожи – и силой характера (каждый по-своему умеет постоять за себя), и силою увлечённости, только её основное «направление» – чувства и воспоминания, он же свою жизнь отдаёт работе.
«Его раздражал этот тон Ники: что-то от пифии! Какой-то треножник в комнате! И эта открытость её вечного „иду на вы!“. Она „разрешила“ проблему – как разгрызают орех. Но он не знал одного: что она это знала. Что сознательно шла на то, чтобы терять как женщина, выигрывая как писатель. Он не знал этого не по недостатку тонкости, а просто потому, что не знал вакхического момента в творческом процессе: той самой вспышки света, от которого вся дальнейшая жизнь Ники – де Сталь – Жорж Санд – Марии Башкирцевой была лишь распылением света. В этом стыке скрестившихся на мгновение двух прожекторов, двух противоположно направленных…»
Мориц говорит: «Я не могу говорить о моих чувствах!.. Когда я много говорю, я лгу. Уже много лет я никогда не говорю о моих чувствах». Может показаться, что Ника о них много говорит. Но она больше говорит о притекающих в её память явлениях, которые воспринимаются и воспроизводятся, богато окрашенные чувством. А сокровенное, самое сокровенное она, как и Мориц, хранит на самой своей глубине. Вот что говорит об этом Ника: «Ах, Мориц, если б вы знали, насколько сложнее писем – писать – писателю! Есть вещи, которые так дороги, что о них невозможно писать! Видишь её, глотаешь в себя! В сокровенное! Как это вам объяснить? Это же звучит надуманно, вычурно, – а это сама суть вещей… Этой сокровенностью пишешь, дыханием её – да. Но когда сама вещь, которую ты должен дать, тебе сокровенна, вдруг какой-то священный ужас берёт тебя и какой-то голос говорит тебе: „Ты не вправе“, – и рука пишет где-то рядом об этом, у какого-то края, но не самую суть. Суть нельзя вымолвить, она страшна, как жизнь и как смерть, и её сказать – святотатственно…»
Сходство их в том, что оба в глубине своей благородны больше, чем в делах, поступках, порывах. На обоих лежит эта печать глубоко затаённой, запрятанной в лагерных условиях стати, которая им дана образованностью, начитанностью, культурой, несмотря ни на какие срывы и переживания. В Нике больше тонкости и возвышенности побуждений, в нём же, в его образе, таком, как он дан в романе, больше действия, больше внешнего, но и в нём под влиянием Ники просыпается желание понять себя, заглянуть в свой жизненный опыт, в свою глубину. «Вы – странный человек, Мориц, – вздохнула Ника, – трудный, ещё труднее меня… Но я всегда считаю себя виноватой. А вы – вы признаёте все свои данности за неизбежность. Вы совсем не боретесь с собой. Я тоже так жила – но в молодости! Потом – перестала». Эти слова Ники, если к ним присмотреться внимательнее, говорят о многом, о том, что и она в молодости жила, не борясь с собой. А. Цветаева в жизни, не в романе, сказала же некогда своему второму, гражданскому мужу М. А. Минцу, что решила делать только то, что ей хочется. В её дневниковой книге «Дым, дым и дым. 1916» об этом: «Я сказала ему о многом: о моём холоде, о глыбе льда, о том, что я иду к полной жестокости – в жизни, с абсолютно чистой душой… – Сильный человек должен взять жизнь – так в руки, чтобы… пьянеть от неё! – сказал он. Он всё понимает. Он сам такой».
Да, Ника прошла подобный период, когда и в ней не было покаянности, было лишь молодое самоутверждение – в чувстве, в поступке, в жесте. Потом, в мирной, довоенной жизни и в лагере, пришло иное – битва за людей, за другого человека, за Морица, а порой – за свою жизнь и достоинство. Приведём дословно важнейший для понимания главной героини, её волевой природы и всего в целом романа эпизод: «После одной переброски я жила в маленькой комнатке с одной старушкой и одной уркой, озорницей: она топила до одурения железную печурку – кедровыми сучками, мы со старухой выходили по ночам дышать, а она раздевалась донага и бегала – на ней была только обувь! – по зоне, пока её не словит охрана и посадит в кондей, к нам приходили за её одеждой, а мы раскрывали дверь настежь, пока станет можно дышать. И вот однажды я больше не могла. Я сказала: „Наташа, больше не топи. Хватит!“ Она так удивилась! Но когда поняла, что я, каэровка, хочу запретить ей, – она задохнулась, схватила полено и им замахала над моей головой. А я голову под полено – „бей“! Она пустила густой мат – и бросила полено. А раз я её, пьяную, под руку провела мимо вахтёра. Она кончила срок. Она, урка, с воли мне, каэровке, написала…»
На самом деле подобных «волевых» эпизодов было по крайней мере два. И второй эпизод Анастасия Ивановна восстановила для романа, но потом в роман не включила. Начало его есть в книге: «Ника сидела одна в глубине барака. Была небывалая тишина: всех женщин разогнал вдребезги пьяный мужик из соседнего мужского барака (как ему удалось напиться? Где же вохра была? – думала Ника). Но бежать вместе со всеми что-то мешало. Она осталась сидеть за столом, только что покинутом убежавшими, – но, к счастью Ники, пьяный, распугавший женщин, озорничая, убежал вместе с ними. Сейчас военная охрана всё приведёт в порядок, а пока можно заняться испанским – как восхитителен был перевод „Тройки“ Гоголя переводчицы Марии-Луизы Алонзо – тройка мчалась в каком-то волшебном краю полу-России – полу-Испании».
До этих слов эпизод вошёл в роман, но далее был автором сокращён. А вот продолжение: «Дверь, входная, резко открылась. Это шёл он, тот пьяный. Без вохры. Сердце Ники сжалось, но и вся она в ответ на это движение страха напряглась движением роста. И, покорная ему, встала. Пьяный шёл, качаясь и матерясь. Хоть бы одна женщина с ним вернулась. Они были одни. Он приближался, насколько мог в своём состоянии, целеустремленно, и – током нервной энергии – Ника почуяла, что он раздражён именно ею. Тем, что она не побежала от него, как все. И мгновенно, из неизвестных глубин, в ней ответно поднялось нечто большее, чем его озорство, – что-то, давшее ей нежданно спокойствие силы. Она ждала. Он шёл.
Она стояла молча, готовая ко всему. Матерясь во всю мощь, во всё искусство этого безобразия, пьяный схватил табуретку и, маша ею, шёл к Нике. Ждать, что он ей сломает хребет? В сердцебиении, перекрывавшем всё, и всею собою ему противясь, в светлой радости этой борьбы тела и духа, она сказала себе давно прозвучавшие ей слова: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders!“ – „На сём стою и не могу иначе!“ (нем.)[1] – она шагнула навстречу, и, может быть став больше ростом, оттого что не убежала, она крикнула: – Бей! – его табуретке. Этого он не ждал. И, табуретку кидая, выматерился ужасающе. Затем повернулся и пошёл из барака. Он потом в своём бараке разделся и прыгнул, босой, на печку. Но его схватила охрана. И повлекли в кондей.
Неделю спустя, давно протрезвев, но не переставая озорничать, тот пьяный (возчик с конбазы) вошёл в женский барак, был день, женщин не было, стал обходить топчаны и тумбочки меж ними и искать по висящим кофтам, передникам – денег.
Любопытно, что он узнал Нику (как мог?). Но это было доказано тем, что он не подошёл к её топчану, обошёл его – молча.
И Нике вспомнился тот случай с уркой Наташей, над ней взмахнувшей поленом, – как она потом с воли прислала ей, каэровке, „контрреволюционерке“, письмо».
По этим двум эпизодам, одному – вошедшему в роман, другому – писательницей за некоторым избытком выпущенному, мы понимаем, в каких нечеловеческих условиях она находилась в лагере, если ей по крайней мере дважды приходилось евангельское заповедание (слова Иисуса Христа): «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39) – превращать невольно в психологическую «боевую технику» в её действиях и с уркой Наташей, и с пьяным возчиком. Её волевая готовность к смерти обезоружила нападавшего. У неё в лагере ещё были подобные, сходные по накалу опасности случаи.
Не всё, что Анастасия Ивановна дописывала в роман, в окончательную редакцию вошло. Так, есть эпизод, где она стирает грязное бельё заключённых: «…трёт крепче грязь о стиральную доску. И по руке её из вышвырнутой кучи белья – прикипевшего? – ползёт оголтелая вошь». Когда она его писала, я видел, был такой текст: «Руки трут, а душа поднимается ласточкой над корытом» – вдруг она густо зачеркнула слово «ласточка» в строке. Я сказал: «Анастасия Ивановна, это же удачно, зачем?» «Нет, сентиментально!» – твёрдо ответила она. Так что и в этом проявилось недреманное в ней волевое начало…
Анастасия Ивановна ввела в роман «Amor» свои стихи. Первоначально заявлено, что Ника будет писать поэму о Морице. И можно было бы ожидать, что именно эти стихи вошли в книгу. К ним, несомненно, относятся: «Когда вы смеётесь – вся жизнь наполняется светом», «Ваша улыбка насмешлива, даже когда вы в рассеянности», «Сомнение» («Да если б я с тобой одним боролась…»), «Здоровье» («Всё хуже чувствую себя. Температурю…»), «Баланс сведён, предъявлен счёт…», «Полынь» («Вдохну – полынь…»).
Несколько стихов этого «Морицева цикла» только кратко цитируются. Но оказывается, что в роман включены стихи из других авторских циклов, герою не посвящённые. Это стихотворения: «Как странно начинать писать стихи…», «Сюита тюремная», «Сюита ночная», «Сюита призрачная», «Есть такие города на этом свете…», «Гитара» («Звон гитары за стеной фанерной…»), «Доминант-аккорд. Летняя ночь», «Разрешающий аккорд. Утешение», «Что терпит он, народ многострадальный…».
О своих тюремных и лагерных стихах, посвящённых Морицу, Анастасия Ивановна мне говорила: «Десять лет я проносила в своём кармане маленькие кусочки папиросной бумаги. Не дописывая слова, я записала свои стихи – никто не отнял. Я рисковала. Даже в стихах он, Мориц, то очаровательный, то наоборот. Он никогда не играл, он был таким, как был, естественным до последней степени. Дикарь. Не думал о том, какое производит впечатление. Это было в нём драгоценно, всё разбивалось о моё материнство – он недоспал, недоел…» Во время работы над восстановлением и дополнением текста романа я сказал Анастасии Ивановне: «Вы как то сказали, что прототип героя, Этчин, был на дипломатическом поприще, в то время как сам Мориц, такой, как он описан, кричит на людей, неуживчив, его не любят». Но Анастасия Ивановна убеждённо ответила: «Ника имеет полное право ошибаться!.. Она его поэтизирует!..»
В неокончательной редакции романа есть эпизод, где Ника, переживая момент ревности и ожесточения, душит в себе порыв уничтожить свои стихи. В ней встаёт тёмная волна: «Накал негодования поднимает её над бюро, над ним, над собой, над дописанными стихами! „Разорви их! – кричит в ней кто-то. – Разорви их сейчас! Романтическую чушь! В которой ты опустилась до любви к человеку, способному вести себя так!“ – „Нет, стихов я не разорву“, – отвечает она себе трезво и холодно».
Заяра Весёлая, дочь репрессированного и погибшего в лагерях поэта Артёма Весёлого, издала маленьким тиражом в серии небольших книжек поэтов-лагерников книжечку А. Цветаевой «Тетрадь Ники» (1992). И многие подумали, что это и есть полный свод того, что опубликовано или предполагалось для романа, однако стихотворений там очень мало и есть позднейшие, к «Тетради Ники», отношения не имеющие, такие как «Муха» или «Мне 80 лет…».
Помимо своих стихов, Анастасия Ивановна в романе цитирует стихотворения М. Лермонтова, А. Блока, М. Волошина, Ф. Сологуба, М. Цветаевой, Н. Гумилёва, М. Кузмина, Н. Вержховецкой и других. Упоминается среди многих книг и «Туннель» Бернгарда Келлермана – любимая книга Анастасии Ивановны. В Морице она хотела бы видеть черты главного героя «Туннеля», о котором говорила: «Надавит на него океан – и нет туннеля, хоть и отдал ему Мак Аллан жизнь». Там тоже строительство, тоже героика, но по сути иная, более трагическая и возвышенная.
Реминисценции к европейской поэзии, прозе, истории столь многочисленны и ассоциативно тонки, что их никак не перечислишь. Чувствуется, что автор – носитель дореволюционной культуры, хранящий осколки её огромного арсенала, как потускневшие камни из старинного ларца. В этом смысле роман, при богатстве языка, при всём психологизме, порадует интеллигентного читателя. Наблюдается закономерное сходство некоторых историй из жизни героини и глав из знаменитых «Воспоминаний» Анастасии Цветаевой, которые в предуведомлении «От автора» чётко определены как «семейная хроника». Но есть и отнесения к более давнему тексту. Так, сцена из главы «Глеб и Миронов», где говорится о первом муже Анастасии Ивановны, Б. С. Трухачёве, и о его молодой компании, хором поющей «песню о Степане Разине, утопившем княжну», соотносится с подобным эпизодом во второй, «дневниковой» книге писательницы «Дым, дым и дым».
Наиувлекательнейшая часть романа – это «Жизнь Ники», повесть в романе, которую героиня пишет по сюжету – для Морица, чтобы быть понятой. Чтобы дать ему понять, к каким далям его зовёт, к чему призывает, как постепенно преодолевает на протяжении своей жизни земные искушения.
«Я напишу всё это (сказала она, медленно, себе), чтобы разбудить в нём – душу. А если для этого мне надо вновь пострадать немного – пусть будет так! Начать – с юности. И как же назвать это? Может быть, так: „С первой настоящей любви“. И – не растекаться по древу! Кратко она скажет о первом муже, о фантастике, романтике этой встречи, о мучениях дней, когда они перешли во враждебный мир секса, о том, как секс разбил романтику, угасил ту любовь. Схематично! Потому что не рассказать – человека. Пленённость, трагизм индивидуальности неповторимой».
В «Жизни Ники» «Amor» предстаёт уже не как книга взаимодействия двух героев, а как своего рода увлекательная хроника привязанностей и чувств к людям – чувств сложных, болезненно пылких, рвущихся через преграды одиночества. Одновременно это книга потерь и омутов тоски, эту тоску преодолевает героиня, бросаясь кому-либо на помощь. Познавая героя, она подсознательно стремится к познанию себя – ей нужно не только ради Морица оживить своё прошлое. Она как бы пишет ретроспективный дневник. Ведь всю юность вела дневники… И вот Ника вновь проживает свою жизнь, описывая её для Морица. Она пишет, как может, кратко. Но таковы уж Цветаевы, что не могут они сухо излагать факты. (Это касается не только Марины и Анастасии Цветаевых, но и их отца И. В. Цветаева, оставившего дневник, и старшей сводной сестры Валерии Цветаевой, её воспоминаний.) Очень скоро начинает колдовать слово, и сверкающий поток прозы обретает полнозвучность…
Насколько Мориц не понимает, или недопонимает Нику, видно из фрагмента более ранней редакции романа. Приводим его, так как он жёстко, конкретно характеризует и героя и героиню: «Прочтя тетрадку, Мориц сказал ей: „Самое сильное в вас – секс“. Это её удивило. Секс? Это всё был – секс? А – душа? Но, подумав, она поняла: ведь это была история её любовных встреч (а он ставил знак равенства с сексом), а не история жизни. Сколького она не рассказала! Она хотела противопоставить его рассказу – свой, его встречам – свои, сказать, как всё было у неё – иначе. Его рассказ был – да, сексуален – сух, душевно. Она в рассказе своём шла от любви к любви, через дружбы, книги, целые эпохи с событиями – вот и вышло кривое зеркало, кривой вывод. Почему он не сказал себе, что от Ники, живущей рядом с ним, которого она же – любила? – он подобного не чувствовал, что только тетрадка её дала ему такой – и притом кривой – вывод!»
Говоря о своём герое, Анастасия Ивановна однажды сказала, что глубинно Мориц, как и его прототип, Арсений Этчин, несмотря на внешнюю привлекательность, был не её тип, в психологическом плане он был проще её, его чувства не парили на такой высоте, как чувства героини романа, Ники. И как-то раз, говоря о Морице, она сказала, что он был человек преимущественно земных страстей, и в связи с этим вспоминала стихотворение о страсти своей сестры, М. Цветаевой, цитировала по памяти:
Голоса с их игрой сулящей,Взгляды яростной черноты,Опалённые и палящиеРоковые рты —О, я с вами легко боролась!Но, – что делаете со мнойВы, насмешка в глазах, и в голосе —Холодок родной.Необходимо знать, что на самом деле, в реальной жизни, по словам Анастасии Ивановны, её чувства к Арсению Этчину в лагере не достигали доминант аккорда. К нему было больше увлечённой дружественности. А в романе – всё-таки это художественное произведение, особенно в предпоследней редакции, где действие происходит на мирной, «гражданской» стройке, – А. И. Цветаева изобразила неразделённую любовь своей героини к Морицу. «Я специально немного искусственно накачивала это чувство в романе, чтобы создать полюса взаимоотношения психологий – мужской и женской», – говорила мне за работой Анастасия Ивановна. В этом плане есть тут и домысел и вымысел. Большая увлечённость Арсением Этчиным в жизни, в лагере была, но в романе она звучит в героине девятым валом сильного чувства, – любви. Во вставной части «Amor», названной «Жизни Ники», описан другой герой, – о нём мы уже упомянули, – юный Евгений Сомов, который до ареста, до войны и заключения увлёкся Никой. Это реальный человек, который был знаком позже и с Мариной Цветаевой, даже пытался (по свидетельству её дочери А. Эфрон) помочь ей с жильём в Москве, отдать свою комнату, а Анастасией Ивановной он задолго до того очень всерьёз увлёкся, и ей пришлось, чтобы погасить возникшую к ней страсть, остричь волосы наголо и снять вставные зубы, обезобразить себя… Это описано в главе романа «Искушение юностью». Анастасия Ивановна о нём рассказывала: «Женя Сомов, заикающийся, голубоглазый, довольно волшебный человек, очень талантливый, он был гений-шахматист… Он у меня бывал. Жил с матерью-коммунисткой. Она была похожа на старую весну. Страшно ласковая, ей коммунизм совсем не подходил. И с очень сухой своей тёткой – сестрой матери… И он жил на их счёт, потому что он совсем неприспособленный был, как блаженный немножко». Но она насмешками заставила его кончить курсы корректора. И он стал зарабатывать на жизнь сам. Она хотела, чтобы в нём пробудилась мужская гордость, и добилась этого. «Ко мне он был очень привязан…»

