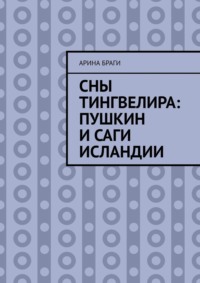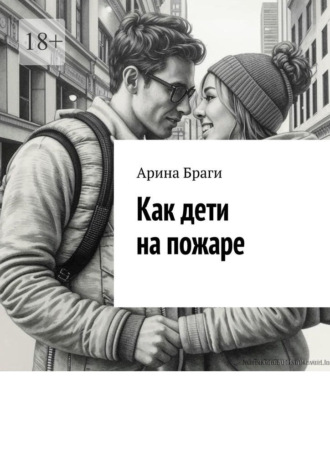
Полная версия
Как дети на пожаре
У острова, овеваемого малосольным бризом с Ист-Ривер и смрадом прелой тины с Гудзона, тоже есть сердце. Прямоугольное. Это Центральный парк. И если что и меняется в круговороте года под окнами величественных зданий золотого гетто восточной окраины парка, то это сезонные колебания флоры в этом их заднем дворе. В апреле здесь бушуют сакуры, и под розовый и лиловый цветопад их лепестков приходят семьи, раскладывают пледы на сыроватую землю у мокрых ещё стволов и попивают пивко, а детишки карабкаются в ветвях поближе к цветочным созвездиям. С веток виднее даль дорожек и слышнее трубные звуки зверья из маленького зоопарка, и когда долетает механический перезвон, дети знают, что это смешные звериные фигурки вышли из домиков и кружат под дребезжащую мелодию башенных часов сказочного бронзового зоопарка.
А потом в мае земля подсыхает, и открываются огромные спортивные поля парка. И тогда с битами наперевес хорошо отмерять геометрию улиц и авеню острова, туда, на свежий песок, подметённый машинками так, что остаются ровные полоски бейсбольных полей за гранью жёсткого ёжика зелёной лужайки. К началу лета – оно здесь начинается в ночь летнего солнцестояния – открывается летний амфитеатр Шекспировского фестиваля, и настоящие звёзды и луна безрезультатно стараются придать космический смысл плохой игре актеров-любителей и блеклым их голосам. Но волшебство реальной летней ночи проявляет вопреки всему волшебство «Сна в летнюю ночь». И уж фильм «Осень в Нью-Йорке» смотрели все, и все знают, каким золотым, красным и романтичным может быть Центральный парк. А зимой парк всеми силами хочет стать рождественской сказкой, чтобы длить и длить её на старом катке, с тупыми лезвиями прокатных коньков.
И всё бы хорошо, даже и растиражированная фильмами романтика осеннего наряда, и любимые туристами перекрёстки дорожек для танцев на старомодных четырёхколёсных роликах, ведь сколько жизней вобрал в себя парк: и пары, и семьи, и дети. Всё бы хорошо. Да вот когда строили первую ветку метро в Нью-Йорке, случилось страшное. На рабочих из стены котлована на Восемьдесят второй Западной улице посыпались скелеты и полуистлевшие гробы. И пресса взорвалась: «тайна, невозможно понять, секретное захоронение жертв гангстеров». А случилось это всего через пятнадцать лет после того, как город сравнял с землёй деревню свободных чернокожих аболиционистов Сенека-виллидж и разбил на ней западную часть парка. «Полная амнезия, полное забвение потерянной чёрной утопии», – так уже в наше время горько сказал историк Центрального парка.
Круг мозаики IMAGINE выложен на земле в том самом месте, где сейчас через сто пятьдесят лет можно лишь вообразить, как гудел колокол церквушки позабытой ныне деревеньки Сенека-виллидж. Джастин, как всегда, понял: Алиса в эту секунду разлюбила этот парк, словно сняв розовые очки и взглянув в подлинное лицо любимого, и ей больно сейчас. Они спрятались в тень у загородки карусели и смотрели на детей, рассаженных по крупам старинных ярких лошадок. Дети радостно и испуганно вцеплялись в стальные стержни, по которым вверх-вниз скользили-скакали кони. А их родители ели мороженое, пританцовывали в такт дребезжащей шарманке, сжимая палочки с облачками сладкой ваты и махали руками всем – и своим, и чужим – детям.
А по внутреннему периметру парка по круговой асфальтовой дорожке, не останавливаясь, катила волна нарядных спортивных горожан на роликах и велосипедах, а конные экипажи, позвякивая вёдрами для конских яблок под хвостами лошадей и попахивая великолепным навозом, уступали им дорогу.
ЧАСТЬ 2
I
ФРЕСКИ БЕЛВЬЮ. МАЙ 1997-го
Тупое рыло острова тяжко дышит в Атлантику, а далеко от него за океаном корчится от беспамятства родная сторона Алисы, уже несколько лет как именованная по-новому. Корчится и взрывается людскими брызгами, которые долетают и сюда, в Манхэттен. Старинное здание на углу Первой авеню и Двадцать восьмой Восточной улицы – отборный кирпич на гранитном фундаменте с терракотовой отделкой под крышей – выворачивает правое крыло, пытаясь, как встарь, отразиться в гнилых водах.
Но нет!
Сваи скоростного хайвея отрезали здание от пролива Восточной реки. «Белвью». Бывший храм психического здоровья, он двести лет одним названием леденил души ньюйоркцев.
Было да сплыло!
Новые тридцатиэтажные корпуса госпиталей «Лагуны» сжали его глупую колоннаду и ржавый чугун ограды – не продохнуть! Психиатрическая клиника ужалась до первого этажа. А как грандиозно начинался проект в тридцатые годы! Лучшие в мире психиатры и медсёстры, крахмальные халаты, передовые методы: лоботомия, электрошок, ледяные ванны. Всё для прыгунов с Эмпайр-стейт-билдинг, слэшеров запястий, алкоголиков, наркоманов, убийц, шизофреников и женщин с послеродовой депрессией, мужья которых подсуетились их сюда упрятать.
Страшно. Сколько криков и безымянных пациентов, и таких знаменитостей, как Юджин О'Нил, Трумэн Капоте и Дэвид Чепмен, убийца Джона Леннона, впитали эти стены. Вошли несчастные в чугунные ворота, оказались на стальных столах подземного морга, и остались блуждать тенями в длинных коридорах. Затихла клиника, жирная пыль на стенах лобби осела на огромные фрески, расписанные учениками Диего Риверы, зарос секретный сад и в гипсовых скульптурах, сделанные руками пациентов, треснули морды баранов и выпали синие стекляшки из лошадиных глаз. Но зачем пропадать добру? Город снял историческое здание со своего баланса, а университет «Лагуны» принял и отдал молодым профессорам.
Тихо в лаборатории последнего этажа старинного здания госпиталя «Белвью», где рыжая и конопатая аспирантка Алиса Можайская заворожённо смотрит, как пузырьки кислорода насыщают физраствор в огромной колбе. И как из неё живительная влага поступает по трубочке в ванночку со свежей нарезкой мозга крысы специально выведенной лабораторной породы.
Алиса наклоняется над ванночкой, втягивает в пипетку очередной срез и пускает рыбкой в чашку петри, укреплённую на микроскопе, приникает к окулярам, наводит фокус и попадает в сияющий мир гиппокампа – маленького участка мозга, где рождается память. Как на рисунках волшебника Рамона Кахаля1, сияющие жирненькие нейроны выстроены в несколько спиралей, спирали скручены к центру, словно гиппокамп сжимает в кулаке память крысёнка о жизни в виварии. Алиса, легко касаясь рукоятки манипулятора электрода, его кончиком прокалывает поверхность среза и вводит иголочку в центр памяти, нажимает кнопку «пуск» и электрод выстреливает короткими очередями тока. Нейроны отзываются живым электричеством и многократно усиленный приборами сигнал пробегает по экрану компьютера. Победа! Первый срез сегодня, который наконец вышел живым из-под лезвия её микротома. Теперь ставка на твёрдость рук и добродушие взращённых в виварии крыс. «Морской конёк» гиппокамп – островок памяти в структуре мозга, жаркое поле битвы нейробиологии.
Да, маленькая личная победа!
Но рано она радовалась: сигнал от нейронов тут же исчез, срез не выжил.
Десятый за сегодня, как и всю эту неделю. Ничего не могу. Не пробить предвзятости Джастина, а терпение Тодда скоро кончится. И конкурент – новый аспирант Малколм Фримен – наступает на пятки. И что тогда? Не буду думать об этом сегодня.
Алиса глянула из единственного окна в торце длинного коридора: рассвело – и тогда подошла к своей экспериментальной установке, перекрыла кислород и выключила фонарик под микроскопом.
Всё. Утро. Пора домой. Завтра всё сначала. И ни у кого не буду спрашивать, нельзя, надо самой.
Она хотела вызвать лифт, но кнопка не загоралась, и она впервые рискнула спуститься по чёрной лестнице, вышла в коридор психиатрической клиники, показала бейджик с шестого этажа этого же здания, и ей разрешили пройти к выходу. Коридор вывел в лобби. Запахло как в детстве, когда в классе она лила уксус и мел шипел и пузырился.
Вот это да!
На Алису смотрели панно девяти громадных фресок, краски продирались сквозь покрытие первым прозрачным слоем свежей извёстки. Ага, латунная табличка, тоже в извести.
Она ладонью стёрла белила. «Ефим Марголис, больница „Белвью“, павильон C. Представлено художественной комиссии города Нью-Йорка, февраль 1939 года. Фрески асекко площадью 900 кв. футов».
Этот неизвестный художник, труд которого решили уничтожить, изобразил солнечный свет, тарелки с мясом и фруктами, коров в стойлах, учёных в халатах, колбы с химикатами и дымы заводских труб. Какофония образов, как в страшном сне Диего Риверы, приглушённая белилами и назло им, вопила о счастье жизни. И где? Здесь, в доме скорби.
Алиса подошла к панели с двумя учёными. Халаты с завязками сзади, рукава на резинке стягивают запястья, как в старом чёрно-белом фильме. Здесь в цвете. По белому полотну халатов играют терракотовые отблески с поверхности квадратного стола, по разные стороны которого они сидят. Черноволосый и усатый приставил правый глаз к единственному окуляру голубого старинного микроскопа, а левой рукой настраивает яркое зеркальце, пытаясь направить луч света на препарат. Огромный лоб и плохая стрижка. «Как у Джастина», – усмехнулась Алиса. В чертах лица второго много женственного: высокая скула, чёрная бровь.
Да это же женщина! Стрижка короткая, но грудь под халатом высокая. Она держит нежно, как младенца, рыжего кролика с короткими ушами. Мадонна науки. Какая разница – её кролик или мой крысёнок.
У Алисы сжалось сердце. За спиной женщины-ученой в горшках горят красные герани и рвутся к окну листья зелёного фикуса. За спиной мужчины – два хирурга в белых масках мрачно склонились над операционным столом, на котором замер пациент под светло-горчичной простынёй.
Сзади раздалось покашливание: охранница с пустой кобурой на вздутом животе и в бронежилете на огромных грудях потела, распространяя бриз дезодоранта и кислой плоти.
– Не слышала, как хлопнула за вами входная дверь, вот и решила проверить. Нравится?
– Не смогла мимо пройти. Кто этот Ефим? Зачем хотели уничтожить эту красоту?
– Да это наш пациент, старик лет девяноста. Это он в молодости рисовал, а вчера украл известь из подсобки и ночью закрасил. Он здесь давно живёт. Сказки всякие рассказывает об этих стенах. А ваш акцент откуда?
– Я русская.
– Так он тоже из России! И перестал понимать английский – забыл, что ли? Можно врач тебе позвонит, когда надо будет переводить? Так вот же он!
Из приоткрытой двери палаты номер сто шесть на Алису смотрел бородатый старик с живыми чёрными глазами на сморщенном лице постаревшего Довлатова. На руках шофёрские перчатки начала эры автомобилей.
Так вот кто бежал тогда вниз по фуникулёру! Надо бы с ним поговорить!
Но к Ефиму уже спешила дежурная, и она помахала ему рукой, не надеясь на ответ, но он успел! Взмах руки, как тогда, на Трамвайной площади, и треуголка с пером пропала за массивной спиной санитарки.
II
КРЫСИНАЯ ГИЛЬОТИНА. ИЮНЬ 1997-го
Пылал закат над сумасшедшим домом,
Там на деревьях спали души нищих,
За солнцем ночи, тлением влекомы,
Мы шли вослед, ища свое жилище.
Борис Поплавский «Пылал закат над сумасшедшим домом» (1933)
– Ну? Ты узнал что-нибудь? – спросил Снаут.
– Пожалуй, – медленно ответил я. – Он не один. Снаут состроил гримасу.
– Вот видишь. Это уже кое-что. Так у него кто-то в гостях?
– Не понимаю, почему вы не хотите объяснить, что это такое, – заметил я, притворяясь равнодушным. – Ведь, живя здесь, я рано или поздно все узнаю. Зачем же такая таинственность?
– Поймешь, когда к тебе самому придут гости, – сказал Снаут.
Станислав Лем «Солярис» (1961)
Словно стетоскоп врача, на грудь лабораторного халата Алисы переброшена трубка с воздухом, что тянется от кислородного баллона к ванночке с искусно подобранной питательной средой. В неё будет сейчас перенесён живой мозг, препарированный из отсечённой головы лабораторной крысы. Халат, белый и крахмальный в начале недели, сейчас грязноват, на грудном кармашке с лиловой вышивкой её имени брызги крови, почти незаметные постороннему глазу. Кровь – крыс, выращенных в виварии, они белошёрстны и не агрессивны. Халат – одеяние палача при маленькой гильотине. Перед тем как ввести наркоз, её мысль споткнулась о привычное «прости, ушастик» – так же замирал физиолог Иван Павлов перед очередной собакой больше века назад.
КАК ИВАН ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ СОЖАЛЕЛ О СОБАКАХ. ИЗ СТАТЬИ А. Д. ПОПОВСКОГО «ПАВЛОВ» (1946)
«Когда я приступаю к опыту, связанному в конце с гибелью животного, я испытываю тяжёлое чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь, что являюсь палачом живого существа. Когда я режу, разрушаю живое животное, я глушу в себе едкий упрёк, что грубой, невежественной рукой ломаю невыразимо художественный механизм. Но переношу это в интересах истины, для пользы людям».
Академик Иван Петрович Павлов, первый русский нобелевский лауреат, создал учение о высшей нервной деятельности, ввёл понятия условного и безусловного рефлексов. Но говорили, что Павлов кулаками бил сотрудников за небрежность в работе и плохое обращение с животными; в его лаборатории собак изводили сотнями. И как Павлову удавалось до конца жизни оставаться кумиром советской власти, несмотря на жёсткую критику политического режима? Павлов посвятил всю свою жизнь той теме, за которую он взялся, студентом прочтя Сеченова. В 1892 году Павлов получил деньги от Эммануила Нобеля за помощь в ликвидации эпидемии холеры в Баку, где находились нефтяные предприятия Нобелей. Деньги ушли на обустройство экспериментальных лабораторий. Кроме собак были козы и шимпанзе.
Павлов занимался основополагающими вещами, одинаковыми у человека и животных. Закономерности возникновения рефлексов едины для всех живых существ. Психика человека тоже зиждется на рефлексах. Но подопытными Николая Красногорского, ученика Павлова, были не только собаки – ещё и беспризорные сироты. Эти опыты Красногорский описал в трудах. В 1926 году его успехи запечатлел Всеволод Пудовкин в научно-популярном фильме «Механика головного мозга». Детям не дырявили тела, как собакам. Но с юными участниками опытов проделывали то же самое, что и с животными. Например, кормили бисквитами под звук метронома, который служил возбудителем условного рефлекса и заставлял усиленно выделяться желудочный сок.
Павлов попросил своих учеников фиксировать стадии его перехода в иной мир. В момент, когда руки Павлова стали коченеть, кто-то позвонил в дверь. Один из студентов вышел к посетителю и сказал: «Извините, но академик сейчас очень занят. Он умирает».
Согласно строгому протоколу, утверждённому высшим комитетом по правам лабораторных животных, Алиса вводит наркоз, ждёт, а потом точным движением опускает нож и мгновенно отделяет голову крысёнка и вскрывает тонкий череп – прозрачные кости прогибаются под острыми лезвиями маленьких, как маникюрные, ножниц.
Хоть бы не повредить мозговую ткань, а потом нарежу мозг на тончайшие срезы – дай мне удачу, пусть нейроны памяти наконец проживут долгие часы эксперимента.
Алиса села за микротом, достала из коричневого конвертика и вставила новую бритву. Усмехнулась. Наша гордость, этот дорогущий прибор с охлаждением и микровибрацией, по сути, похож на обычный слайсер, гастрономическую машинку для нарезания, сыра и ветчины для сэндвичей в итальянском бистро по соседству.
Вот уже три месяца длятся безуспешные эксперименты: нейроны живут дольше и дольше, но всё равно гибнут посредине эксперимента, не выдерживая протокола тестирования. И тогда Алиса начинает сначала: гильотина – нож – микротом – бритва – эксперимент. Тодд и Джастин подбадривают, говоря, что это уникальные эксперименты и что в некоторых лабораториях от них уже отказались, и добавляют, что верят в неё. И декан тоже поверил.
Так и сегодня, чуть разогнала эксперимент, только-только нейроны памяти стали отвечать на её команды живым электричеством и пошла запись результатов, как щёлкнуло, напряжение ушло, и нейроны замолчали. Она откинулась на спинку рабочего кресла, мочки ушей зачесались от стыда.
А ведь декан Мануэль Акоста тогда искренне выпалил, что нашлась потеряшка, и поздравил, что Тодду я пришлась ко двору.
Позвонил Джастин, раздражённо сказал, что Мануэль давно ждёт её на стандартную встречу декана с аспирантами первого года. Его секретарша мне почему-то позвонила, считает, я за тебя в ответе. Сама, пожалуйста, следи впредь за графиком аспирантуры.
Так Алиса впервые за три месяца аспирантуры попала к Мануэлю Акоста в кабинет. Каким просторным, чистым и полным воздуха он ей показался! Дальняя стена составлена из белых кубов книжных полок. Боковые стены – терракот кирпичной кладки – вбирали тепло книг и излучали на посетительницу. Энергия стен? Над его рабочим столом под потолком три окна впускают волны света, отражённого от чёрного озера напротив – стеклянной стены небоскрёба главного госпиталя «Лагуны». Этот неверный свет смягчают матовые светильники. В рамках дипломы и страницы с рисунками нейронов, выдранные из книги основателя нейронауки Рамона Кахаля. Нейроны разные: одни как цветики-семицветики на длинных ножках, другие, развесистые, как ивы, плачущие над прудом, а третьи прорастают в коре головного мозга плотными разноцветными клумбами.
И главный рисунок – гиппокамп, «морской конёк» по-латыни, а в нём две плавные дуги кустистых нейронов Пуркинье скручиваются к центру в тугую пружину, словно гиппокамп зажал память в кулаке, и тут же яркое фото, снятое на флюоресцентном микроскопе, современный препарат гиппокампа. Алиса вспомнила, что декан получил за этот снимок премию журнала Nature.
Рабочий стол с тремя гигантскими мониторами отгорожен длинным файл-кабинетом вишнёвого дерева. Перед ним два кресла и круглый столик, на нём статуэтка гигантского кальмара, сжимающего в щупальцах нечто знакомое. Мануэль усадил её в кресло, а сам вышел из-за стола и сел на стул в дальнем углу комнаты, так, чтобы вся её фигура попадала в его поле зрения. Психолог. Молчал, изучал. Алиса первая не выдержала, указала на кальмара:
– Сушёная рыбка?
– Нет, нет. Все так думают. Засушенный гиппокамп слона, вернее, слонихи. Слоны, они всё помнят. Я тоже, как слон, помню, как мы завалили её с другом лет тридцать назад.
– Из ружья?
– Лекарственная винтовка. Слониха жила в зоопарке, смотритель избивал её палкой между ушами, потом её продали в парк развлечений, и она катала детишек по кругу от столба к столбу, где дети оставляли для неё яблоки и арахис. Через несколько лет туда пришёл её обидчик, так она его вспомнила и выбрала момент, чтобы его затоптать, но мерзавец спасся. Слоны таят обиду годами. Держать её для детей стало опасно, вот хозяева и решили, что пусть для науки послужит и привели её ко мне сюда. Ну, мы со студентами-медиками этот вот гиппокамп и изучали.
Ничего себе. Это он к чему?
Из задумчивости её вывела фраза, видимо, Мануэль её повторял уже несколько раз – о всемирной сети мест на Земле, где у человека открывается память о прошлом и где обитают животные с огромными гиппокампами. В таких местах строят храмы предков. Места усиления памяти.
– Госпиталь «Белвью», где ты с Тоддом и Джастином сейчас работаешь, стоит на месте индейского храма «Память пяти тысяч отцов назад».
Академик заговорил о магии этого старого здания, но Алиса уже мысленно отмахнулась от намёков о местах силы и прочей чепухе, перебила его:
– Отцов? Может, лет? Пять тысяч лет назад?
– Да нет, отцов, так индейцы время измеряют: пять тысяч отцов назад, пятьдесят тысяч отцов назад. И Манхэттен у индейцев звался Шайнаш-кинек – «остров встречи с предками в устье реки, текущей вспять». Это потом они переименовали его в Манна-хата – «место, где нас обманули».
– Кто обманул? – вяло попыталась поддержать беседу Алиса, хотя уже утомилась от обилия баек.
– Голландцы, конечно. Сама ведь, наверное, знаешь, как они стреляли из мушкетов по лодкам индейцев, не хотели платить аренду за Новый Амстердам. Давно это было, не бойся, в семнадцатом веке. Всё нормально, все удивляются такому летоисчислению, – успокоил её декан.
Помолчал, потом пробормотал «кровь не водица» и «все рыжие и горячие всегда перебивают». Алиса скривилась виновато и перевела разговор на портрет за его спиной: женщина в старомодном, под горло, докторском халате и круглой белой шапочке держала модель мозга, а за ней старинное здание над рекой, похожее на госпиталь. Смутно знакомое, но если это «Белвью», то откуда этот речной госпитальный причал?
– Моя мама. Она была психиатром, одной из первых женщин-профессоров. Из-за неё и мозгом я заинтересовался. Причём в четыре года.
Алиса удержалась от шуточки «Не рановато ли?», но он понял и повторил, что да, в четыре или пять.
– Мама взяла меня с собой в клинику, я играл на полу в огромной приёмной, там было много посетителей, они сидели долго, мне было скучно. Я обкручивал игрушечного осьминога медной проволочкой с катушки: я тогда любил всякие щупальцы и провода. И тут один мужчина падает и начинает хрипеть и дёргаться. Вызвали маму и отвели его к ней в кабинет. Потом я спросил её: «Почему этот дяденька так странно двигался и такие страшные звуки издавал? Ему что, не стыдно?» «Он не хотел делать эти движения». «Но почему тогда он это делал?» «Понимаешь, ну, ты не хозяин всего, что происходит с тобой. Есть нечто, что называется мозгом и находится у тебя в голове, и иногда мозг делает то, что ты не хочешь делать. И поэтому пациент ходит ко мне, он болен».
Алиса пошутила, что первый раз слышит о таком раннем получении базовых основ нейробиологии, а сама она фрукт запоздалый. Уходя, она вдруг вспомнила таинственную его фразу, которую пропустила мимо ушей: о том, что Джастину и Тодду помогает само здание «Белвью», его стены, которые влияют на гиппокамп и крыс и экспериментаторов. И о намёках на паранормальные явления в коридорах «Белвью». Она обернулась и начала было уточнять:
– Призраки пациентов?
Но он оборвал её:
– Поймёшь, когда к тебе самой придут гости.
Ничего себе, ну и шуточки у декана! И она не стала рассказывать ему о русском художнике Ефиме, о котором узнала, случайно попав на первый этаж.
Алиса вернулась в лабораторию. Голова раздулась, как шар, от всего увиденного и услышанного бреда. Собралась выключить оборудование, но тут Джастин плавно втёк в лабораторию, держа два стаканчика с кофе. Кофе пришлось заглатывать на бегу: позвонили из клиники первого этажа:
– Чудит Ефим Марголис, отказывается понимать английский, помоги с переводом! Художник опять в депрессии и не хочет принимать лекарства.
– Что у него? – решилась спросить Алиса, потом неуверенно посмотрела на Джастина. – Паранойя. Говорят, тридцать лет он здесь заперт.
– Я с тобой, мало ли что.
Джастин увязался за ней. Она лишь дёрнула плечами: как хочешь, – но облегчённо выдохнула, что идёт туда не одна. При виде яркой Алисы – «Шагал, ну ты просто Шагал, девочка!» – Ефим размяк, принял успокоительное и забормотал по-русски о видениях в ночном коридоре, о том, что его мозг принимает радиоволны «радио Белвью», что старые стены знаменитой дурки могут углублять эмоции, которые только пробуждаются, например любовь. Алиса перевела этот бред Джастину. Но Джастин, умный скептичный Джастин, почему-то не скривился своей фирменной ухмылочкой, а как-то затих. Ефим переглянулся с ним, потом взглянул на неё – умные глаза, ни капли безумия – удовлетворённо хмыкнул уже по-английски: «Видишь, я в порядке». Алиса промолчала – о чём тут спорить, – и Ефим добавил:
– Поймёшь, когда к тебе самой придут гости.
Ничего себе, совпадение!
Они пошли к выходу, Джастин вдруг заговорил:
– Все тебя любят, всем ты нравишься: и Шломо и Хассану. Вот и этот старик художник флиртовал с тобой, готов был все лекарства проглотить, лишь бы тебе угодить.
Алисе захотелось уколоть его: «Что, во вселенной монахов существует понятие флирта?» – она вспомнила, как Джастин признался ей: «Я монах сейчас, без романтических отношений». Пару дней назад, посмеиваясь, она поддела его: почему это девушки никогда не звонят ему в лабу? Но почему-то не решилась подхватить вброшенный им мяч, сказала только:
– Не знала, что тебе знакомы такие слова, как «флирт».
Наверное, он растерялся от её невинной подколки. Она поняла это потом, вспомнив, как остановился взгляд Джастина, словно споткнулся на ровном месте, и дёрнулась челюсть. Потому и обрушился на несчастные замазанные фрески в лобби первого этажа, чтобы стереть слово «флирт», промелькнувшее между ними.
– А я догадался, почему Ефим их хотел закрасить. Он вспомнил, что эта его работа вторична. Что эти микроскопы, злаки и плоды он слизал с утраченной фрески «Мексика, запертая в клетку» своего учителя Диего Риверы. Сама вспомни ранние опыты Тодда Сектора, когда он думал, что стёр память у крысят, а потом она неожиданно возвращалась. Тодд вызывал воспоминание о прошлом обучении, потом, не давая уйти обратно в память, стирал их блокаторами и электрошоком, а потом выяснил, что стёр только одну из новых копий воспоминания, а старая копия этого же воспоминания поднялась из глубинных структур мозга. Может, самый первый вариант памяти на стёртое им воспоминание! И то, что Ефим называет «радио Белвью», пробудило, казалось бы, стёртую им память о том, что он украл идею своего учителя.