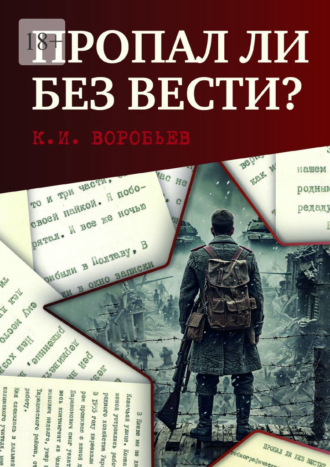
Полная версия
Пропал ли без вести? Автобиографическая повесть бывшего военнопленного
Наконец, довольно большой населенный пункт. Объявляется двухчасовой перерыв.
Невзирая на стрельбу конвоя, бросаемся к полузасохшему ручейку, падаем и сосем жижу. Кое-как утоляем жажду, во рту песок, режет в желудке. Резко ощущаю голод.
Начиная с этого населенного пункта конвой был смещен. Вместо немцев по сторонам колонны стали наши, «советские», донские казаки – юнцы по 16—18 лет. Все в военной немецкой форме, на лошадях, в руках плетки, за плечами – немецкие автоматы.
Только спереди и сзади колонны на бричках ехали немцы.
И вот эти конвоиры – юнцы, не стесняясь, подгоняли плетками своих же отцов.
Чем дальше на запад, тем люднее станицы и тем менее они разрушены. Из населения, в основном, – бабы, дети, старики. Все они глядели на нашу колонну без всякого сочувствия, я бы сказал, даже с ухмылками. Помню такой случай: проходили через станицу, вдоль улицы стояли бабы, дети и старики, в неизменных своих донских фуражках. Кто-то из колонны крикнул им:
– Подайте воды, конвой вас не тронет!
Никто даже не шевельнулся, только полетели в нас обладающие арбузные корки, за которыми в пыль бросились многие из нас.
Вот как встречало нас славное донское казачество. Не берусь их осуждать. Логика деревенского обывателя проста: немец дошел до Волги, оккупировал всю Европу и значительную часть Европейской части Советского Союза, а жить и растить детей нужно, когда кончится война и возвратятся домой мужики, знать им не дано. Вот и выкручиваются бабы, кто как может, некоторые пошли в услужение к немцам ради льгот и материальной выгоды.
Немцы же, хорошо зная, что казачество всегда было надежным оплотом царизма, также стремились создать для них особые привилегии. Казачью молодёжь не угоняли в Германию. Раздали им землю (колхозную), брали меньший налог.
Нужно отметить, что эта тактика оккупантов: натравливание народностей друг на друга, разжигание национальной розни, создание привилегий отдельным слоям населения, широко внедрялась на оккупированной территории.
Движение по донским степям уже четвертые сутки. Основная пища – колоски, которые срываем по дороге с неубранных полей. Жуем и проглатываем сырое зерно. Живот набряк и пучит, я уже несколько суток не оправлялся, ничего не получается, хоть волком вой. Наконец, после долгих мучений оправился с кровью. Теперь зарекся – сырое зерно не кушать, как бы я ни был голоден. Этот зарок спас меня от тяжких последствий, которые испытали многие из нас.
Счет суткам потеряли, бредем толпой в туче пыли, все больше людей отстает. Наконец, показался большой город. Это был г. Миллерово.
Нас осталось не более одной трети. Заводят в большой котлован (бывший карьер глины кирпичного завода). Диаметр этой ямы примерно 250—300 м, глубина – до 15 м. Единственный въезд в яму закрывается воротами, вокруг вышки с пулеметами.
В этом открытом лагере было более 30 тыс. человек. Посредине ямы, начиная почти у ворот и до противоположного конца, врыты в землю деревянные бочки (15 шт. на расстоянии примерно 20 м друг от друга), в которые выливалась привезенная из кухни пища. Кухня находилась вне лагеря, недалеко от большой кучи зерна, бывшего тока. Там варили один раз в сутки «баланду»: суп-кашу, иногда с кониной, и привозили к часу дня. Вечером, в 7 часов, кипяток. Порядок кормления следующий: все становились в 15 шеренг у бочек по одну сторону ямы. У каждой бочки стоял раздатчик с черпаком. Получивший баланду обязан был находиться по другую сторону бочек. Там он ел и там же оставался до тех пор, пока остальные не получат еду. Просто и надежно.
За порядком следила местная полиция, возглавлял ее назначенный из военнопленных «начальник лагеря». Он же ежедневно выделял до 100 человек рабочих на кухню и на местный завод подсолнечного масла.
Брались на работу более или менее хорошо выглядевшие, здоровые люди. Всякий раз они с работы что-нибудь приносили.
Я за полтора месяца пребывания в этом лагере так и не смог попасть в эту рабочую команду. Не подошел по своему виду.
«Обед» длился 2—3 часа, затем специально выделенные люди, каждый раз новые, мыли бочки и, конечно, съедали остатки.
Вечером в эти бочки наливался кипяток. Два раза в неделю давали кусочек хлеба, не более 200 г. Черпак «баланды» был литра на полтора, иногда попадались куски мяса (битых лошадей). А если имеешь «блат» с раздатчиком, то всегда будешь с мясом. Раздатчики, лагерная полиция, работники санчасти – тоже все военнопленные. Жили они в бараке недалеко от ворот. Все остальные – под открытым небом. От непогоды прятались в норах, вырытых в стенах карьера.
Шел сентябрь 1942 года. Еще тепло в этих краях, но по ночам прохладно. Спим вдвоем в норе на подстилке из соломы. Грязные, все тело чешется, завелись вши. Днем, когда пригревает солнце, занимаемся их уничтожением, однако эффект незначительный.
Я решил обрить бороду. Но каким образом это сделать? Оказывается, можно побриться за соответствующую плату. Плен пленом, а жизнь идет даже в этой яме.
Люди стараются группироваться по национальностям. Особенно оживленно на территории, где сосредоточились узбеки и другие национальности Средней Азии. Там ежедневно устраивается что-то вроде базара: обменивают, продают, бреют и стригут, в общем, типичный восточный базар в миниатюре.
Вокруг нашей ямы-лагеря ежедневно, до самой темноты, стояли сотни женщин, многие из Украины, в надежде отыскать своих мужей, сыновей. Лагерь охранялся, в основном, румынами. Солдаты-румыны ходили в лагерь с целью поживиться: меняли, продавали или просто забирали все, что им приглянулось. Эти солдаты часто выкрикивали имя и фамилию военнопленного, его местожительство, которые сообщали ему женщины в надежде найти своих. Делалось это румынами за соответствующую мзду. Однажды, сидел я со своим другом Николаем, единственным солдатом из нашего дивизиона, оставшимся со мной, возле своей «каты» -норы. Подходит к нам румын. Вижу, пристально смотрит на мои сапоги, через плечо у него перекинуты солдатские ботинки и шинель. Предлагает мне в обмен на сапоги ботинки и шинель. Ботинки не новые, но еще хорошие. Примерно ничего, войдут. Соглашаюсь, так как мне очень нужна шинель. Тут Коля говорит:
– Проси у гада денег впридачу, видишь, как ему понравились сапоги.
А сапоги, действительно, были еще хороши, несмотря на ту длинную дорогу, которую я прошел в них по донским степям.
На нас глазеют другие, каждый дает совет. Торгуемся на пальцах, по-немецки. Вытаскивает 20 рублей наших, советских, и передает мне вместе с шинелью, ботинки у меня в руках. Шинель старая, неопределенного цвета, но она нам с Колей очень пригодилась.
Читатель может задать вопрос. Ведь солдат-румын, в данном случае, победитель, а я – военнопленный. Он мог просто отобрать сапоги. Дело в том, что хотя Румыния, а также Италия, были союзниками немцев в войне против нас, однако их солдаты, да и офицеры, не очень храбро сражались, при случае, пачками сдавались в плен. В немецкой армии их презирали, держали в строгости, а за мародерство – расстреливали. Логика такая: военнопленный – добыча германской армии и только немцы вольны распоряжаться их судьбой. Было заметно, что при появлении немцев в лагере, румыны немедленно ретировались (шакалы уходили).
За пять рублей узбек побрил меня. Даже врагу не желаю такого бритья! Терпел, но зато помолодел лет на 20. Так определил результат бритья Коля.
Теперь мы ежедневно ходили с Колей на базар. В кармане – 15 рублей. Коля бриться не захотел, видя, какие муки я терпел, когда меня брил узбек.
– Давай лучше купим блинчики, – говорит он.
– Какие блинчики?
– Пошли, покажу.
Подходим к группе из Средней Азии. Вижу: на железе жарятся круглые лепешки на постном масле и очень аппетитно пахнут.
Купили несколько штук, и тут же их слопали. Как я уже писал, постное масло приносили те, кто ходил работать на маслозавод. А мука, где ее брали? Секрет добывания муки мы скоро раскрыли. Эти «узбеки» брали кал, выбирали из него неусвоившиеся желудком зерна, сушили их, затем на камнях мололи и получали муку. В зерне недостатка не было, производство лепешек процветало, хотя все уже знали, из какого зерна мука.
Прошел сентябрь 1942 года. Недалеко от ямы проходила железная дорога, все время шли составы на запад. Немцы вывозили с Дона и Кубани зерно и скот. Куда-то исчезли румыны и итальянцы. Охрану лагеря взяли немцы, в основном пожилые солдаты. Жизнь в лагере продолжалась, ежедневно то тут, то там обваливались норы, люди стремились поглубже зарыться, спасаясь от холода. Похоронная команда работала в поте лица.
Немцы, люди педантичные, начали нас считать, устраивая вечером двух, а то и трехчасовую поверку. Разбили всех по сотням, каждый был обязан знать номер своей сотни, старший сотни докладывал о количестве. Счет сугубо приблизительный. Пошел слух – считают, чтобы знать, сколько нужно транспорта для вывоза.
Количество женщин уменьшалось только на ночь, а рано утром они снова появлялись вокруг ямы. Бедняги пропадали по несколько дней, и бывали случаи, что находили своих.
Расскажу об одном таком случае. В лагерь зашел солдат-немец и стал по-русски выкрикивать две фамилии. Подошел он к нам, в руках держит записку, в которой все данные о разыскиваемом человеке. Отозвался один мужик, который «жил» рядом с нами в норе. Сверили данные. Все сошлось. Написал он что-то немцу на бумажке и потом сказал нам, что это нашла его жена. Сам он с Украины, мой земляк. Солдат ушел с его запиской, и через некоторое время возвратился, неся клунок с продуктами: хлебом, салом, помидорами, яйцами.
Жена написала ему, что подала немецкому командованию лагеря прошение старосты их села с просьбой отпустить его домой и ручается, что он верой и правдой будет служить новому порядку. Этот мужичек с Украины залез в свою нору и все, что ему передала жена, сожрал.
Ночью со его стороны раздались стоны, перешедшие затем в крик, наконец все стихло. На следующий день пришел солдат с разрешением на его освобождение, но он был уже мертв. Как говорят, жадность «фраера» сгубила. Истощенный организм не принял столько калорийной пищи. Это была еще одна, полезная для меня наука.
Наступил октябрь. Ночью и по утрам прохладно, отогреваемся днем, солнышко еще греет. Чувствуется какая-то напряженность, поток железнодорожных составов с востока на запад резко уменьшился, везут много раненых.
Дошла и до нас очередь. После обеда поступила команда:
– Всем построиться по сотням для отправки.
Сотня за сотней выходят люди, кто в чем, под охраной солдат и собак. Направляемся к железнодорожной станции Миллерово. На путях стоит эшелон, почти сплошь из открытых платформ, огороженных деревянными стойками и колючей проволокой. Только спереди и сзади закрытые вагоны для охраны. Скот и то везли в лучших условиях.
Погрузились на платформы, все прижались друг к другу, накрылись шинелью, и мы с Колей. На платформы разрешили подстилку из соломы, которой на станции были целые скирды. Мы зарылись в солому, которая при движении поезда разлетелась на ветру. Ехали всю ночь, к счастью, без продолжительных остановок. Наутро показался большой город. Подъезжаем к вокзалу – Харьков. Итак, мы прибыли в город Харьков. Что дальше?
Вокзал целый, выгружаемся с платформ, вроде все целы. Солома очень помогла.
– Давай, давай быстрее! – кричат немцы.
Строимся в колонну по четыре человека и вступаем на улицы Харькова. Колонна направляется на Холодную гору в тюрьму, оборудованную под пересыльный лагерь для военнопленных.
Здесь началась фильтрация: офицеров отдельно, комиссаров и евреев также отдельно – в камеры. После чего санобработка с вошебойкой. Вода еле теплая, дали по кусочку мыла. Смотрим друг на друга – сплошь доходяги. Мылись все с каким-то остервенением, время для мытья ограничено, очень хотелось поскорее избавиться от вшей. После мытья стрижка наголо, голову и пах мажут квачем с какой-то вонючей жидкостью. После этого выходим в более-менее чистое помещение, где выдали нательное белье. Какое бросили, такое и одевай. Приносят прожаренную верхнюю одежду, обувь – каждый выбирал из кучи свое. У кого сгорели вещи, давали другие – старые военные.
Затем людей размещали по большим камерам, набивая их до отказа. В камерах двухъярусные нары, уборная во дворе тюрьмы.
Комиссарам и евреям выход из камер запрещен.
Назначен старший камеры, в обязанности которого входило следить за порядком и чистотой. От вшей избавился, от грязи не совсем, чувствую себя легче, но голод мучает. Ни о чем не думаешь, только о еде. Здесь такой баланды, как в Миллерово, нет, совсем отсутствует мясо, жидкий супчик из каких-то полустилиных овощей, правда, к нему кусочек хлеба-суррогата. Вечером кипяток, иногда заваренный, и такой же кусочек хлеба.
По всему чувствовалось, что мы здесь будем недолго. Каждый день убывали и прибывали партии людей. Не успели мы даже познакомиться друг с другом, как через два дня опять строиться для отправки.
Одет я был уже посредственно, имел даже венгерскую шапку с козырьком, была шинель и ботинки, те же румынские. Смастерил себе что-то вроде вещмешка, в который положил ложку и миску, помня, что это основной мой капитал.
Читатель может задать вопрос: «А как с курильщиками, как они обходились без курева?» Они мучались без курева, вся их энергия уходила на то, чтобы достать чего-нибудь покурить. Часто пожилые люди-курильщики выменивали даже ту мизерную пайку хлеба на табак, что всегда приводило к гибели. Один раз в Харькове нам дали махорку. Я ее тщательно завернул и спрятал, позже поменял на хлеб, не переставая удивляться, как можно променять хлеб на курево.
Снова мы на вокзале г. Харькова. На этот раз нас грузят в кривые вагоны-товарники. В каждом «параша», окна забиты решеткой из проволоки. Нар нет, на полу солома. Грузимся по 40—50 человек, в зависимости от емкости вагона. Едем на запад, но куда?
Мы сидим час, другой в вагоне. Наконец, открывается дверь, команда выделить людей, получить хлеб и воду на дорогу. Хлеб – из расчета буханка на пять человек на трое суток. Хлеб, который выпекался для военнопленных, это неполноценный хлеб, наполовину из отрубей и других примесей.
Спонтанно решаем: сразу же разделить хлеб и отдать каждому его долю во избежание всяких неприятностей. Делимся по пять человек, каждая пятерка получает хлеб и начинается священнодействие. Кто был в плену, тот знает, что дележ хлеба – это своеобразный ритуал, не должна упасть ни одна крошка. Каждый получил около 600 г хлеба, что не съел, бережно завернул в тряпицу и спрятал (обычно за пазуху). Пожилые курильщики делили свой хлеб на две, а то и три части, съедая одну, а молодежь быстро расправлялась со своей пайкой. Я поборол себя, съел только половину, остальное спрятал. И все же ночью съел все.
Эшелон тронулся на рассвете. К вечеру прибыли в Полтаву. В нашем вагоне нашлись полтавские, которые бросали в окно записки родным, надеясь, что проходящие железнодорожники их подберут и передадут по назначению.
В вагоне душно, параша воняет, лежать нет места, все время сидишь или стоишь. В Полтаве почти не задержались, едем все дальше на запад.
Вторые сутки на исходе, наблюдатели у окна сообщают, что видна большая река. Да, это Днепр, переправляемся по мосту возле Черкасс. Хлеб давно съеден у всех, воды нет, голод донимает, кружится голова, сидим на соломе.
Заканчиваются третьи сутки, а конца поездки не видно. Вагон ни разу не открывался. Вонь нестерпимая – кто-то уже лежит, не вставая, я стараюсь вставать и хоть немного подышать воздухом у окна. Несколько раз видел эшелоны с немецкими войсками, шедшими на восток, а вообще, очень мало людей на станциях.
Прибываем на крупную железнодорожную станцию. Идут четвертые сутки пути. Показался железнодорожник, кричим ему:
– Какая это станция?
– Фастов, – отвечает.
Так вот где мы, в 50 км от Киева на запад. В Фастове я до войны часто бывал, в этом городе жил мой сокурсник по институту, и я у него гостил.
В Фастове стояли долго. Стучим в двери вагона, требуем воды, никто не реагирует. Уже появились мертвые. Есть и без сознания. Я нашел двух из Киевской области, мы жадно всматривались в окно, но что можно увидеть в маленькое окошко товарного вагона, забитого решеткой. Параша давно переполнена, все выливается на пол, вонь невыносимая, особенно когда поезд стоит. При движении поезда еще как-то дышать можно.
Под вечер трогаемся. Я знал, что сразу после Фастова идет подъем железнодорожного полотна, поезд здесь замедляет ход. Это же подтвердил и один из моих новых знакомых из Киевской области.
Как-то стихийно у нас троих возникла мысль, что здесь можно бежать через окно вагона, но как выдернуть решетку? Попробовали расшатывать руками. Она прибита гвоздями не очень сильно, но для нас, доходяг, снять ее оказалось проблемой. По очереди расшатываем, поддается. На нас никто не обращает внимания. Наконец решетку удается снять, пока она стоит только наживленная. Разрабатываем план побега: моя очередь выскакивать в окно вторая. Решаем через окошко взбираться на крышу вагона, а там искать площадку или через буфера спрыгивать на землю. Как мы и ожидали, эшелон пошел медленнее, кругом темень, момент самый подходящий. Подсаживаем первого, головой вперед, лицом к нам, дальше и дальше, вот он уже ухватился руками за крышу вагона. Попросил еще подтолкнуть, и затем исчез в темноте. Моя очередь: спиной вперед высовываю голову, и тут раздается пронзительный свист, короткие автоматные очереди, поезд замедляет ход и останавливается. Быстро соскакиваю обратно в вагон, кое-как прикладываю решетку на окно. Ждем долго, не менее часа.
Открываются двери нашего вагона настежь. Всем выходить, построиться в колонну по четыре человека. Вокруг нас вооруженные охранники. Всю верхнюю одежду и обувь приказано снять и сложить в кучу, затем нас пересчитали, назначили старшего вагона и сообщили, что в случае побега старший и еще 10 человек из вагона будут расстреляны.
Одежду куда-то увезли.
Сидим в вагоне в нательном белье, босиком. Ждем, пока не закончится эта операция во всех вагонах. Снова открывают дверь вагона, старшему приказывают организовать уборку, вынести и похоронить тут же, около железнодорожного полотна, трупы, освободить парашу. Принесли хлеб и воду. Все это время выходили из вагона только люди, назначенные старшим для уборки, остальные находились в вагоне. С появлением хлеба и воды затеплилась надежда, да и свежего воздуха хлебнули, пока нас пересчитывали. Все снова в вагоне, кто в чем. Делим хлеб. Ни о чем другом дум нет.
Поезд трогается. Итак, нет худа без добра: если бы не побеги, а как потом выяснилось, в это время пытались бежать, и некоторым это удалось, не только из нашего вагона, а также из других вагонов, то, наверное, не видать бы нам хлеба. Этот хлеб и вода были последней трапезой перед еще долгой дорогой до станции назначения.
От голода и жажды мы потеряли счет суткам, поезд часто останавливался на длительное время. О побеге не могло быть и речи: люди сильно ослабели, кроме того, старший вагона и его приближенные зорко следили за всеми, кто мало-мальски имел силы еще двигаться по вагону, боясь быть расстрелянными. Вот она, борьба за жизнь, во всей своей наготе, которая сопровождала меня теперь все время. Упускаю детали этого страшного «путешествия», чтобы не уморить читателя.
Прибываем на станцию назначения, открываются двери вагона. От свежего воздуха, яркого солнца, а в основном от голода, в глазах потемнело, кружится голова, еле слышу слова команды:
– Выходи!
Постепенно прихожу в себя, соскакиваю с вагона и тут же падаю, с трудом встаю. Везде подгоняют быстрее строиться по четыре. Что-то маловато нас осталось. В вагон вскакивают охранники, выходят обратно, о чем-то между собой переговариваются. Слышу слова по-немецки: есть мертвые.
Колонна военнопленных тронулась. На здании вокзала читаем: станция Владимир-Волынский. Так вот нас куда привезли – на западную границу. Совсем рядом Польша.
На станции дали жидкой баланды, сняли верхнюю одежду и обувь. Все перепуталось, мне достались чужие ботинки, но это не имеет значения, важно, что я жив, во всяком случае, существую.
Итак, во второй половине октября 1942 г. я прибыл в лагерь для советских военнопленных в г. Владимир-Волынский. На окраине города находился крупный пересыльный лагерь для военнопленных офицеров советской армии. Два десятка длинных деревянных бараков (блоков) и несколько кирпичных двухэтажных зданий (бывшие уланские казармы).
Лагерь окружен двумя рядами колючей проволоки, между которой полоса пропаханной земли. Через каждые 200 м ограды – сторожевые вышки, на которых круглые сутки дежурят охранники. Большие металлические ворота, через которые может входить колонна людей, шириной до 10 м. На территории лагеря находились: пищеблок, баня, санчасть. Главная достопримечательность, которая мне запомнилась, – большая площадь, вокруг которой и располагались бараки. На площади каждый вечер проводились поверки количества людей. Эта изнурительная процедура длилась по два и более часа. Изнуренные голодом, болезнями люди стояли по стойке смирно на холоде, под дождем, снегом, пока у немцев не сойдется счет.
Люди выстраивались в колонны по четыре человека лицом на середину площади, счет вели старшие блоков из наших военнопленных совместно с блокфюрерами-немцами из охраны лагеря, которых сопровождал переводчик. Учет людей в лагере был поставлен с немецкой пунктуальностью, так как в зависимости от количества людей выдавались те мизерные продукты в «пищеблок».
На территории лагеря отдельно располагались два кирпичных здания №4 и еще несколько небольших помещений. Это был лагерь для военнопленных-калек. В основном это были офицеры-танкисты со страшными увечьями: без ног, рук, слепые и т. п.
В этом маленьком лагере немцы имели хорошую практику по ампутации и лечению после операции. Об этих молодых ребятках-калеках я расскажу после.
Наступили холодные, дождливые, осенние дни 1942 г. На работу ходят немногие – более крепкие, здоровые. Работа связана с заготовкой и транспортировкой для нужд лагеря дров, картошки и т. д.
Суточное питание таково: 200 г. эрзац-хлеба, черпак баланды из брюквы, кольраби и полугнилой картошки. На вечер – эрзац-чай. Один раз в неделю давали курево, примерно на четыре сигареты.
Мне 23 года. Хлеб съедал мгновенно, баланду выпивал еще быстрее, хорошо, если попадется какая-нибудь картофелина. Вот и все на целый день. После такой еды еще больше мучает голод, все мысли заняты тем, где и как раздобыть чего-нибудь поесть. В бараке двухъярусные деревянные нары. Все бараки не отапливаются, кроме кирпичных зданий. В плохую погоду сидим в бараках, стараемся больше лежать, чтобы не тратить энергии. Кто был плотным, стал тонким, звонким и прозрачным. Все язвы, диабеты и другие желудочные заболевания, которые были дома, исчезали. Люди начали пухнуть.
Наступила зима 1942—1943 гг. – самый страшный период моей жизни в плену. На почве голода и болезней возникла в лагере вражда между национальностями, которая вовремя поощрялась немцами и нашей «русской» администрацией лагеря.
Немцы расселяли военнопленных в блоках по национальностям: были бараки, в которых помещались люди среднеазиатских республик, были кавказские, а русские, украинцы и белорусы жили вместе.
Вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Немцы низших чинов заходят на территорию лагеря все реже. Комендант лагеря, обер-лейтенант, только в особых случаях, одетый в противомикробный костюм. Все было отдано на откуп лагерной администрации. Эти лагерные, как мы их называли, «придурки»: повара, «врачи», полиция и другие начальники, жили в лагере и горя не знали за счет нас. Каждый твердо знал: заболел – крепись, а то попадешь в санчасть, уже не вернешься. Никто не лечил, наоборот, больных умерщвляли, чтобы в счет «мертвых душ» получать себе продукты.
Буханка хлеба давалась на восемь человек. В нашей восьмерке я сдружился с двумя офицерами: один – майор, лет под пятьдесят, другой – младший лейтенант из Киевской области, мой земляк. Майора звали Игнат Петрович, фамилию он не хотел назвать, а лейтенанта – Володей Блажко.
Каждый из нас выглядел старше своих лет, и когда меня спрашивали, с какого я года, отвечал, что с 1915, четыре года прибавлял. Очень помогал мне – молодому человеку – своим добрым словом Петрович. Он не переставал повторять, что нужно не падать духом, не запускать себя, стараться опрятнее одеваться и чинить порванное. Сам он брился (был у него станочек и лезвия, очень тупые), давал он их и мне. О многом он рассказывал, о чем я и понятия не имел, особенно много поведал о коллективизации 1929—1930 гг. и выселении кулаков, в котором он сам участвовал. Я удивлялся тому, что о пище он не говорил и голод не так переживал, как я. Свою пайку курева я отдавал ему, за что получал, по существующей в лагере традиции, полпайки хлеба, от которого я просто не имел сил отказаться. Спали мы вместе. Володя рядом, а мы с Петровичем под одной шинелью, вторую шинель подстилали на нары, согревая друг друга телами.

