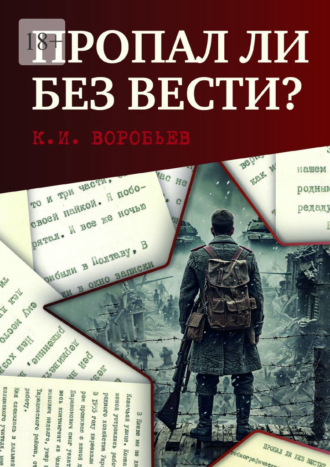
Полная версия
Пропал ли без вести? Автобиографическая повесть бывшего военнопленного
Напрашивается вывод, что этот рейд 2-й ударной не был всесторонне проработан в штабе Волховского фронта. Здравствуйте, сыграли «победные реляции», посылаемые штабом фронта в Ставку об успешном наступлении 2-й ударной в начале операции.
Власов же, этот честолюбивый властолюбец, жаждал как можно скорее добиться славы, пренебрегая советами своих подчиненных об опасности окружения, и в результате попал в ловушку. Вот еще один пример деятельности «горе-командиров» высшего ранга, на совести которых тысячи погибших и попавших в плен солдат и офицеров, храбро сражавшихся до конца. Теперь, к сожалению, их считают пропавшими «без вести».
Прибыли мы на Воронежский фронт на ст. Поворино в начале июня 1942 г. Двигался эшелон в основном ночью, днем отстаивались на глухих полустанках. Неоднократно подвергались бомбежке, а в основном все закончилось благополучно. На станции Поворино немедленно разгрузились и выехали за ее пределы, так как этот большой железнодорожный узел немцы беспрерывно бомбили. Как потом выяснилось, на Воронежский фронт и под Сталинград были переброшены более ста гвардейских минометных дивизионов, там мы вошли в состав 21-го гвардейского минометного полка.
Наш 21-й гвардейский минометный полк поддерживал стрелковые дивизии, сдерживающие гитлеровские полчища в излучине р. Дон.
Конкретно 6-й ОГМД имел задачу охранять понтонную переправу через р. Дон в районе ст. Иловля. Боеприпасы доставлялись на ст. Иловля и затем нашими автомобилями подвозились к установкам. Читатель помнит, что один залп дивизиона – это 16 снарядов. По инструкции дивизион должен иметь пятикратный запас снарядов – 980 шт. Все снаряды около 40 кг, длина 160 см, снаряды упаковывались в деревянные ящики, по два в каждый. На складах строго-настрого требовали возврата ящиков, иначе снаряды не выдавались. Из расчета грузоподъемности автомобилей и пятикратного запаса снарядов, дивизион имел 20 грузовых автомобилей ГАЗ-2А.
В тех боях приходилось давать три, а то и все пять залпов. Машины беспрерывно были в дороге: 10 машин подвозили, другие 10 с пустыми ящиками уезжали за снарядами, конечно, если они были на станции назначения.
До сих пор я удивляюсь, как авторемонтникам удавалось держать технику в боевой готовности. Конечно, большую роль сыграла квалификация водителей.
К какой армии мы были в этот период – конец июля 1942 г. – приданы, и какую часть конкретно поддерживали своим огнем, я не знал, да и знать мне – воентехнику, не положено. Наше дело – боевая готовность техники.
Нужно сказать, что довоенные автомобили ГАЗ-2А и ЗИС-6 были надежные машины, хотя зачастую их приходилось заводить вручную.
Разгромив наши войска под Харьковом в июне-июле 1942 г., немцы продвинулись к Дону с целью выхода на Волгу и захвата Сталинграда. На юге они оккупировали Кубань, захватив даже горные перевалы Кавказа.
Вот как описывает обстановку в тот период командарм Москаленко, непосредственный участник тех боев: «Южнее Воронежа наши войска перебрались на восточный берег Дона и заняли оборону. Верховное командование – Ставка – начала переформирование армий, подтягивала новые резервы. В излучине Дона в районе Калача наши войска удерживали натиск противника, стремившегося переправиться через реку Дон, захватить Калач, а там – кратчайшая дорога на Сталинград. Контрударами 1-й и других армий противник в районе Калача был остановлен, а большего осуществить не удалось, так как противник (в основном 6-я армия Паулюса) располагал большими силами и средствами на этом участке фронта. К тому же, авиация противника имела подавляющее превосходство в воздухе. На помощь войскам, рвавшимся к Сталинграду, противник перебросил 4-ю танковую армию с Кавказского направления».
К концу июля 1942 г. врагу удалось глубоко продвинуться на Воронежском и Сталинградском направлениях.
В этот грозный для Советского Союза час был издан приказ наркома обороны №227, который нам зачитали перед строем дивизиона. Все, кто воевал и дожил до тех дней, хорошо знают содержание этого приказа, который гласил: «Ни шагу назад», предусматривал организацию загранотрядов, штрафных рот и батальонов для рядовых и офицеров, и другие меры.
Офицер, не выполнивший приказ своего командира, или допустивший отступление воинской части, которой он командовал, без приказа на это высшего командования, попадал в штрафной батальон, разжалованный в рядовые и был обязан кровью искупить свою вину.
Штрафные роты, батальоны направлялись на передовую, прямо в бой на прорыв. Если такой штрафник был ранен и своевременно доставлен в госпиталь, то ему повезло: провинность снимается, в некоторых случаях восстанавливалось офицерское звание. Но обычно раненых было очень мало, в основном люди погибали.
Положение на Сталинградском фронте все более усложнялось. Наш дивизион уже в составе 21-го гвардейского минометного полка все время поддерживал своим огнем войска, удерживающие плацдарм северной части малой излучины р. Дон.
Особенно жестокие бои шли во второй половине августа 1942 г. Противник беспрерывно атаковал наши позиции, не хватало снарядов. Из рук вон плохо работали службы обеспечения боеприпасами в условиях, когда армии не закончили формирование.
Гвардейские минометные части снабжались боеприпасами и горючими по разнарядке штаба армии, которую мы поддерживали. Посланный командиром дивизиона капитаном Дибрава начбой за снарядками уже второй день не возвращался; дивизион стоял без боеприпасов, практически бездействовал.
Наступило 23 августа 1942 г. Командир дивизиона вызвал нас – старшего лейтенанта и меня – и поставил нам задачу: во что бы то ни стало привезти снаряды. О месте получения снарядов нам сообщат в штабе армии.
Судя по мемуарам того же Москаленко, это была 1-я танковая армия, вновь сформированная, штаб которой находился в лесу, в районе Фролово.
Итак, утром 23 августа 1942 г. я поехал в штаб армии узнать, где для нас снаряды. С трудом, после долгих мытарств, нашел землянку начальства боепитания армии. Захожу – никого нет. Слышу, за занавеской кто-то стучит на машинке. Отдергиваю занавеску: за машинкой сидит миловидная девушка в военной форме, появляется полузаспанный подполковник. Мимоходом замечаю: рядом возле стола с машинкой стоит чисто убранная кровать. Соображаю: это кровать девушки, а ложе подполковника, наверно, за деревянной перегородкой. Докладываю подполковнику, что я из 6 ОГМД, прибыл узнать, где наши снаряды, и что автомашины с тарой – ящиками – и солдаты меня уже ждут. В ответ слышу:
– Лейтенант, выйдете и доложите, как положено.
Выхожу из землянки и тут соображаю, что я не отдал честь, когда появился этот подполковник. Ах, ты, «скотина», живет, наверное, с «бабой», спит на чистенькой кроватке, «штабная крыса». С этой мыслью возвращаюсь в землянку, козыряю и докладываю по уставу.
– Ваши снаряды на станции Котлубань, в 15 км от Сталинграда.
Девушка тут же напечатала разнарядку на бланке штаба, подполковник подписал, поставил печать.
Вместе с начхимом, который был старшим, мы наметили маршрут движения. Предстояло ехать около 100 км, решили двигаться с интервалом 300—400 м машина от машины. Решили сделать две остановки колонны, двигаться не по шоссе, которое постоянно подвергалось бомбежке, а в стороне по проселочным дорогам или прямо по полям.
Кругом степь, сушь, жара. Начхим впереди колонны, я ее замыкал. Рассчитывали доехать до цели еще засветло, нагрузиться и ночью двинуться в обратный путь. Но увы! Этому не суждено было сбыться.
Еще в начале пути мы заметили, что нашу колонну все время сопровождает самолет-разведчик «фокке-вульф», так называемая «рама», то снижаясь, то поднимаясь ввысь.
Это нас держало в напряжении, все время приходилось маневрировать, сидящие в кузовах солдаты-грузчики постоянно вели наблюдение за ним. Но самолет покружил и улетел.
Продолжаем путь на юго-восток, было уже за полдень, подъезжаем к пункту первой остановки, где наметили перекусить.
Вся колонна стоит перед шлагбаумом, подхожу, начхим уже разговаривает с солдатом у шлагбаума.
– В чем дело, почему не открывают шлагбаум?
Спрашиваем у солдата, какой он части, где начальство. Говорит, что он из саперной роты, командир роты должен быть в деревне – 2 км отсюда.
Поехал туда начхим, солдат-сапер остался на посту.
Вскоре он возвращается и говорит, что в деревне никого нет, уехали на станцию Котлубань.
Эта саперная рота ремонтировала железную дорогу, проходящую через деревню на ст. Котлубань и далее на Сталинград.
Солдат же был поставлен у шлагбаума, чтобы не пропускать машины, так как, по словам какого-то военного начальника, дальше ехать было опасно: немцы прорвали фронт, и танки с крестами движутся на Сталинград.
Посоветовались с начхимом, вроде никаких признаков опасности нет, выстрелов не слышно. Саперы уехали на ст. Котлубань, наши снаряды там же. Возвращаться без снарядов – значит не выполнить боевой приказ.
В штабе армии подполковник, посылая нас на ст. Котлубань, обязан был знать обстановку. Тут что-то не то: под видом какого-то начальника мог быть просто провокатор или паникер.
Памятуя о приказе №227, где о «паникерах» тоже было сказано, мы посадили солдата-сапера на одну из машин и помчались на ст. Котлубань. Не доезжая нескольких километров до Котлубани, я заметил множество движущихся нам навстречу точек. Вскоре видим: это наши солдаты, в беспорядке, все по степи бегут с котомками и шинелями на плечах, некоторые без оружия, пересекая дорогу, по которой мы двигались, отступали на восток.
Наша колонна остановилась, я подошел к одному из солдат и спросил:
– В чем дело? Где командиры? Какая часть? Почему отступаете?
Однако вразумительного ответа не получил. Солдат только сказал, махнув рукой:
– Что, не видите? Отступаем.
Время было уже за полдень, жара невыносимая. По лицам солдат течет пот с грязью.
Странным показалось отсутствие командиров. Может быть, они шли или ехали где-нибудь в стороне от нас.
Все-таки мы решили ехать на ст. Котлубань. Подъезжая к станции, услышали выстрелы, по нашим машинам били с миномета. На самой станции слышны пулеметные и автоматные очереди. Станция горела, горели железнодорожные составы. Подбегаю к домику возле станции, в надежде увидеть кого-нибудь. Никого, только несколько трупов. Скорее вижу, чем слышу:
– Лейтенант Воробьев, быстро к машинам!
Бегу, рядом взрываются мины. Несколько наших автомашин пылают. Начхим уже уехал на Сталинград, оставив одну машину для меня и двух солдат. Мы немедленно двинулись на восток, к Сталинграду. Шоссе хорошее, видимость также, хотя уже было около 7 часов вечера. Развили максимальную скорость, сколько можно было выжать из довоенного ГАЗ-2А.
Вижу впереди колонну, но почему она стоит? Останавливаемся и мы. Только водитель успел притормозить, не выключая двигателя, как через кабину, впереди нас с водителем пулями было разбито стекло.
Пригнувшись, я открыл дверцу кабины и вывалился наружу, то же сделал водитель с другой стороны машины.
Ползком отполз от машины метров на 10—12. Кругом слышен визг пуль, стреляют из автоматов. Лежу распластавшись на земле, как на зло нигде ни одной хотя бы кочки, кругом степь и даже кюветов нет. Слышу крики, команды на немецком языке. Подходят ко мне, что-то говорят. Я притворился убитым. И вдруг удар носком ботинка в бок. Потом я узнал, что ударом солдатского ботинка в бок они узнают, убит человек или жив.
– Aufschtechen! (Вставай), поднимаюсь, в боку нестерпимая боль.
– Händ hoch (руки вверх), поднимаю руки, все делаю механически, команды понимаю, так как в школе и институте изучал немецкий язык.
В сумерках различаю рыжего немца.
– Du gist ofizier? (ты офицер) – спрашивает меня.
– Nein, ich bin Kzafzflicher (нет, я шофер).
Как только я ответил по-немецки, лицо немца, а это был фельдфебель (наш старшина), стало менее свирепым.
С нашей машины остались живыми я и водитель, правда, он был легко ранен в ногу. Стало совсем темнеть. Выводят нас на дорогу, подходит группа людей, различаю наших солдат с других машин – 7 человек. Итак, нас осталось в живых только 9 из 38 человек.
Очевидно, фельдфебель был старшим по званию, обычно у немцев это командир взвода или даже роты.
Инстинктивно мы все отреагировали вместе, одеты в летнее обмундирование и почти все без пилоток.
У меня была хорошая портупея и пистолет «наган», который фельдфебель забрал себе. Так что я был и без ремня. В таком виде мы стояли на дороге и ждали своей участи.
Немцы переговариваются между собой; слышу голос фельдфебеля и жест рукой на запад – мол, идите туда.
Ощущаю, что сейчас двинемся, а нам в спины из автоматов.
Идем все дальше и дальше; почти темень. Черное небо, недалеко вспышки орудий, сигнальные ракеты, кругом на востоке и юго-востоке – зарево. Пронесло, значит, не расстреляли. Различаем поле ржи. Какая рожь! Уже начала осыпаться. Зашли глубоко в поле и сели.
Это было 29 августа 1942 г. близко полуночи. Сидим все молча, только водитель моей машины, раненый в ногу, стонет. Кое-как впотьмах сделали ему перевязку из его же нательного белья.
В «Литературной газете» от 27 сентября 1987 г. есть заметка: «Один день войны», в которой написано, что много лет спустя журналист-писатель В. Песков спросил Маршала А. М. Василевского: «Какой был самый тревожный, самый драматический день войны 1941—1945 гг.?» Маршал вспомнил тревожные дни в Москве осенью 1941 г., но тут же назвал и другую дату – 23 августа 1942 г. В тот день, сметая наши войска, к Волге прорвался немецкий танковый клин. Маршал хорошо помнил этот день. Я этот день буду помнить до конца жизни.
И вот странно, несмотря на все переживания, мы вскоре легли на теплую еще рожь и уснули.
Начало светать. Просыпаясь, в сознании – а не сон ли все это? Оглядываясь, почти все уже не спят. Сидим, молчим, каждый со своими думами. Я один офицер, остальные солдаты, среди них три водителя.
Как я уже говорил, водители в дивизионе были, в основном, с Кубанского края – уже не молодые. Вижу: эти кубанцы и еще два солдата отделились и о чем-то переговариваются. Со мной остались три солдата. Я советую всем вынуть, у кого какие есть документы, и закопать здесь же, в поле.
Кубанцы мне уже не подчиняются и хотят немедленно выйти из укрытия.
– Давайте разведем, может быть, есть шанс пробраться к своим на северо-восток, – говорю я.
Все молчат. Пригревает августовское солнце, мучает жажда. Слышим шум моторов и голоса людей. Речь немецкая. Выглядываем, и перед нами картина: кругом, сколько охватывает взор, в 300—400 м от нас, стоят автомашины разного типа, бензовозы и другая техника. Это были тыловые части 1-го танкового корпуса немцев, который прорвал наш фронт и стремительно двинулся на Сталинград.
Теперь отвлекусь от истории своего пленения, чтобы поговорить о проблеме наших военнопленных вообще.
Да, по старинным понятиям я сдался в плен, так как при мне был пистолет, заряженный восемью патронами, и я мог, при приближении немцев, не будучи раненым, убить хотя бы одного немца и последнюю пулю послать себе в лоб. Но я этого не сделал. И не сделал потому, что инстинкт сохранения жизни возобладал, мне ведь было только 23 года.
Я много читал разных авторов, бывших военнопленных, книги которых изданы спустя 30—40 лет после начала войны. И во всех случаях эти «писатели» пишут, что в плен они попали или контуженными, или тяжелоранеными.
Позволю себе со всей откровенностью заметить, что эти авторы, мягко говоря, лгут, рассчитывая на современного молодого читателя, который об этом не имеет ни малейшего представления.
Пройдя всю жестокую школу плена, я категорически заявляю, что, будучи даже легко раненым, человек, попавший в плен в условиях окружения или другой ситуации, погибал. Погибал от потери крови, от заражения. Погибал потому, что не мог двигаться, от голода, жажды и так далее.
Обрати внимание, молодой читатель: этот «писатель» сообщает, что попал в плен тяжело раненым или контуженным, и ничего более. Кто его подобрал, антисептировал раны, перевязал, менял повязки, лечил, кормил, пока он не выздоровел – об этом ни слова. Что, это ему все делали фашисты? Чепуха. Тогда, может быть, сам господь бог помог ему?
Правда, были наши солдаты и офицеры тяжелораненые-калеки в плену. Это, в основном, молодые ребята, танкисты, которых я видел в отдельном блоке во Владимиро-Вольском лагере для советских военнопленных офицеров. На них немцы, врачи-хирурги, учились оперировать, производили разные медицинские опыты. Все они, в конечном счете, погибли. Ибо как может выжить человек без двух ног и слепой к тому же, или без двух рук – в плену? Наконец, известно (медики это очень хорошо знают), что в основном умирали в наших госпиталях те раненые, которым не была своевременно оказана медицинская помощь. А наш «писатель» вернулся домой целехонький, жив-здоров, и еще «сочиняет». А если копнуть его поглубже, как говорится, «на духу», так все это чистой воды брехня.
Одно печально, что многие принимают эту «писанину» за чистую монету. Бывают даже пьесы и фильмы о таком «герое».
Глава II. Плен
/1942—1945 гг./
Солнце поднимается все выше, жажда нестерпимая. За рожью шум усиливается, слышна немецкая речь, смех и музыка.
Кубаны выходят и идут туда. Поднимаемся и идем мы трое. Приближаемся к машинам – никто на нас не обращает внимания, все чем-то заняты, в основном завтракают, так как с котелками и ложками. Подходим к группе солдат и вдруг слышу русскую речь:
– Что, ребята, попались? Жрать хотите?
Я спешил. Спрашиваю его, кто он и что он здесь делает.
– Я русский, вожу снаряды.
Вот это да! В фашистской армии работают русские люди, непосредственно участвующие в боевых операциях.
Около нас сгрудились немцы, слушают мой разговор с этим «русским». Сам он из Таганрога, и вот уже третий месяц у немцев – подвозит снаряды. Спрашиваю его:
– И много вас таких тут?
– Есть, – говорит, – несколько.
Пошел он куда-то и приносит несколько котелков рисовой каши с мясом. Пока он ходил, я попросил «вассер», пили много, даже глазевшие на нас немцы удивлялись. Сидим, кушаем. Наконец, подходит какой-то офицер в очках, типичный «технарь».
При помощи таганрогского мужичка ведем разговор. Снова слышу:
– Du gist ofizier? (ты офицер) – Тычет рукой в отвороты моей гимнастерки.
Наши гимнастерки на солнце порядком выцвели, и на моей четко виднелись следы от двух кубиков, которые я снял, когда был во ржи.
Отвечаю, что я техник-лейтенант.
После перевода немец говорит, что он мой коллега, но все же решил устроить мне экзамен. Подводит к автомашине, вижу, наш ЗИС-5, сам садится в другую машину и делает знак, чтобы я ехал.
Делать нечего, завожу машину и трогаюсь. Далеко не уедешь, кругом машины загораживают путь. Мои кубанцы подходят к офицеру и что-то ему говорят, после чего переводчик куда-то их отводит. Больше я их не видел. Весьма вероятно, что эти мужики последовали примеру таганрогца.
Теперь попробуем побывать на месте этих солдат в то время, вникнув в сознание рядового человека, не ведавшего, что планирует начальство, тем более Ставка верховного командования, но зато четко представляющего, что немец уже на Волге, захватил значительные территории Советского Союза.
Для них война закончилась. Теперь скорее нужно вернуться на Кубань – домой, к своим семьям. А пока главное – остаться живым. Такова психология обывателя, выработанная двумя десятилетиями изуверской политики Сталина по отношению к народам Украины, Северного Кавказа, Кубани. Вспомним насильственную коллективизацию, ликвидацию кулачества как класса, голод 1932—1933 гг.
Остались мы четверо. Раненый водитель почти не мог уже ходить. Вскоре нас отвезли на хутор Вертячий и поместили в подвале какого-то строения. Здесь было уже до сорока человек. Вечером отвезли в степь и поместили в овечью кошару. Это был загон для овец, приспособленный под лагерь военнопленных: обнесен двумя рядами колючей проволоки со сторожевыми вышками для охраны.
В этом, так называемом, лагере было уже несколько тысяч военнопленных и лиц в гражданском, попавших в плен в этот злополучный день – 23 августа 1942 года.
В послевоенном фильме «Сталинградская битва» этот день назван был диктором «черным днем» Советской Армии. Ужасную ночь мы пережили с 24 на 25 августа. Несколько раз за ночь кошару бомбили наши самолеты, приняв ее за скопление противника.
А может быть, немцы специально сделали этот лагерь на открытой местности, чтобы отвлечь наши самолеты от действительных целей.
Всю ночь продолжалась артиллерийская стрельба. Совсем недалеко, очевидно, шли бои, но почему-то канонада раздавалась не с востока, а с северо-запада. Охрана все время давала предупредительный огонь из автоматов. Какой-то тип погрузки выкрикивал в мегафон, чтобы все оставались на местах. Подняв темень, во многих местах слышны крики и стоны раненых после бомбежки.
Наконец, рассвет. Появляются два охранника, вооруженных до зубов, и с ними штатский. Отобрали нескольких военнопленных, вручили им лопаты, велели собрать убитых и захоронить тут же, в кошаре. На раненых никто не обращает внимания. Одна из женщин (в лагере были плененные медсанбатовцы) подводит охранников и переводчика к раненой женщине, которая лежит без сознания с раздробленным бедром, и просит оказать ей помощь. Что-то сказав друг другу, один из охранников подошел к лежащей и выстрелил ей в висок. Много раз потом, вспоминая этот случай, я пришел к выводу, что это был, пожалуй, лучший вариант для раненой в тех условиях. Мы уже почти сутки в кошаре, ни воды, ни еды; переводчик говорит, что и завтра ничего не будет, так как немецкие войска, а с ними и наш лагерь, отрезаны советскими войсками от своих тылов, и снабжение отрезанных войск идет по воздуху.
Этот факт подтвержден в мемуарах маршала Г. К. Жукова, где он пишет: «14-й танковый корпус немцев прорвался в районе хутора Вертячий и вышел к Волге. Наши войска, отошедшие на северо-запад, атаковали противника с севера и отрезали 14-й т.к. от своих тылов, который вынужден был несколько дней снабжаться по воздуху».
Правда, воду привезли, а в остальном – выживать, кто как может. Проходит вторая ночь в кошаре, не бомбят, наверное, разведали наши, что бомбили своих, а не немцев. Еды никакой, и только к вечеру на третьи сутки привезли в бочках «баланду» (лагерное название подобия супа). Конечно, никакой посуды, ложек у нас пятерых не было. О! Как мы завидовали тем, кто имел котелки и ложки. Только тогда я понял, что это основное в плену.
Ребята нашли старое, ржавое ведро с дыркой. Кое-как дыру законопатили и пошли получать баланду.
Раздавал ее все тот же переводчик, не переставая напоминать нам, что мы должны благодарить немцев за пищу. Этот дядя, правда, не скупился и наливал всем полную посуду, какую ему подносили, но, однако, каждому смотрел в глаза и вел счет.
Нашлись у него и помощники среди наших военнопленных – будущие лагерные «придурки», немецкие холуи, полицаи, которые за лишний котелок баланды готовы убить собственную мать.
Получили баланду на пять человек. Теперь проблема, как кушать. Решили черпать по очереди из ведра. Одолжили у одного из тех, кто уже поел, посудину, которой и черпали.
Один ест, а у других текут слюнки. Никаких разногласий и споров пока еще не было: тому, мол, гуще, больше. Ведь это было только начало, еще плен не укладывался в нашем сознании.
Утром 27 августа команда: «Всем построиться». Приехали до дюжины вооруженных немцев на лошадях и две брички. Всех нас разделили на сотни, назначив старшего и его заместителя. По сотням выводили из кошары.
Многие раненые, в числе их и мой водитель, пошли со всеми. Кто не мог идти – остались. Уверен, все они погибли.
Выстроилась колонна. Впереди бричка с двумя охранниками, сзади также бричка, по бокам охранники на лошадях.
Двинулись на запад, жара, пыль. Сначала сотни шли с некоторым интервалом, потом все смешалось.
Более крепкие и молодые, среди них и я с тремя солдатами из своего дивизиона, старались быть впереди колонны, чтобы не дышать пылью сотен ног. Голода не ощущали, мучала только жажда. Раненые отставали, их пристреливали. Отстал и наш водитель.
Подошли к Дону. Какой-то бывший поселок, сейчас – груда развалин. Прямо из реки напились воды вволю.
Прошли уже не менее 20 км. Усталые люди падают и тут же засыпают, благо на дворе август и ночи в этих местах теплые.
Мой вид следующий: в летних брюках и гимнастерке х/б, без головного убора. Заросший, выгляжу стариком. Единственная не мне хорошая вещь – хромовые сапоги, полученные еще в академии, в Москве.
По временной переправе перешли р. Дон. Колонна значительно поредела. Идем дальше на запад. Охранники жрут, пьют, веселятся в бричках.
Проходим какую-то станицу в донских степях. Ни души, жара донимает, мучает жажда.

