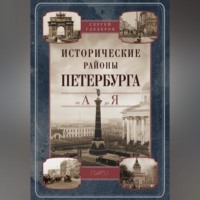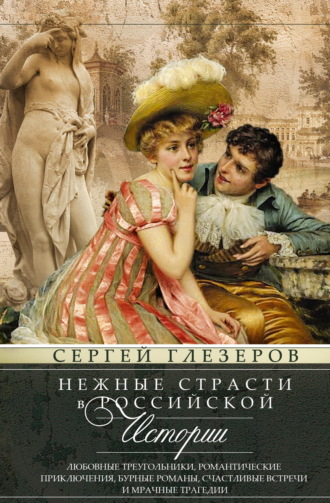
Полная версия
Нежные страсти в российской истории. Любовные треугольники, романтические приключения, бурные романы, счастливые встречи и мрачные трагедии
На следующее утро коридорный, по приказанию студента, подал чай, затем номер вновь заперли изнутри. До часу пополудни оттуда не было слышно никакого шума, а затем раздались один за другим два выстрела. Потом из номера выбежала окровавленная женщина с истошным воплем: «Спасите!!! Я совершила преступление и себя ранила. Скорее доктора и полицию – я доктору все разъясню». Она упала на пол, молила скорее позвать доктора и все время повторяла: «Я убила его и себя».
Прибежавшая на крик прислуга обнаружила в номере студента, лежавшего в луже крови и не подававшего признаков жизни. На кресле валялся револьвер с тремя заряженными патронами и двумя пустыми гильзами…
Барышня истерично повторяла: «Тут никто не виноват; рано или поздно так должно было случиться!» На вопросы подоспевшего врача она объяснила, что тот, кого она лишила жизни, он жил с ней и оказался «самым низким, скверным человеком». По ее словам, она застрелила Довнара за то, что он назвал ее «самым дурным словом», потом она выстрелила уже в себя.
Барышню (ее звали Ольга Палем) отвезли в Мариинскую больницу. Ранение оказалось неопасным, вскоре она пошла на поправку и предстала перед судом присяжных по обвинению в заранее обдуманном убийстве. По словам очевидцев, подсудимая находилась в «болезненно-нервном состоянии», с ней «делались нередко дурноты и истерические припадки».
На суде было оглашено ее письмо к ее бывшему возлюбленному: «Саша убит совершенно случайно, так как я хотела… не убить, а только поранить, чтобы у него явилось раскаяние и угрызения совести, для того, чтобы он на мне женился… к несчастью, в это утро он слишком сильно вызывал во мне ревность и, не щадя, меня оскорблял как только мог. Я, не помня себя от самого сильного оскорбления, выхватила револьвер… была ли цель убить или попугать его – не помню; помню только, что я выстрелила, он упал».
Защита, нередко игнорируя факты, пыталась во что бы то ни стало представить Довнара жертвой «коварной женщины», которая систематически его травила. Все это строилось исключительно на каком-то отвлеченном академическом положении, что он был еще в возрасте «учащегося», она же, по метрическому свидетельству, двумя годами старше его.
Впрочем, на суде выяснилось немало весьма деликатных подробностей. Оказалось, что роман Довнара с госпожой Палем продолжался около четырех лет. Свидетели показали, что покойный, скромный и приличный на людях, не стеснялся в присутствии бесхитростной прислуги проявлять довольно жесткие черты своего характера. Иногда он избивал Палем до крови, до синяков, пуская при этом в ход швабру, однажды изломал на ней ножны своей старой шашки студента-медика.
Прислуга удостоверила, что еще в 1892 году, в период совершенно мирного сожительства на одной квартире господ Довнара и Палем, Довнар после какого-то кутежа и ночи, проведенной вне дома, вскоре заболел «таинственной болезнью». Он скрывал ее от Палем до тех пор, пока не заболела наконец и она. Обоим пришлось лечиться…
Характеризуя прошлое подсудимой, помощник прокурора заявил, что оно так неприглядно и так позорно, что он спешит закрыть его «дымкой» из опасения оскорбить чье-либо нравственное чувство.
Обвинение пыталось доказать, что Ольга Палем – проститутка. В качестве доказательства была представлена фотокарточка Палем, которую покойный Довнар, совместно с своим другом детства господином Матеранским, разыскал в одном из одесских притонов. Однако затем выяснилось, к одесскому притону эта фотография не имеет никакого отношения.
Одесский полицейский пристав, вызванный в качестве свидетеля, отверг всякое предположение о подобной «карьере» госпожи Палем. Поскольку обвинение в «продажности» рассыпалось, сторона обвинения стала доказывать, что Ольга Палем – просто-напросто фривольная и «безнравственная» женщина.
И снова мимо. Да, студент Довнар вовсе не был первым мужчиной в ее жизни, но не было и тени подозрения ни в развращенности, ни во фривольном поведении. Да, она пользовалась популярностью у мужчин, но никаких существенных доказательств ее предосудительного поведения предоставлено не было.
Защитником Ольги Палем выступил легендарный адвокат Николай Карабчевский, один из выдающихся адвокатов и судебных ораторов дореволюционной России.
«Чтобы самому себе раз и навсегда отрезать пути к произвольным и пристрастным выводам, я не буду пользоваться для характеристики покойного Довнара иным материалом, кроме собственных его писем, и притом представленных к следствию его же матерью, к которой все они писаны», – заявил Карабчевский.
Таких писем было шестнадцать. Каков же в них студент Довнар?
«Желания его предусмотрительны, средства практичны, приемы осторожны и целесообразны… Он домогается перейти из Медицинской академии в Институт инженерных путей сообщения по соображениям иного, чисто карьерного свойства, которые он с пунктуальной и явственной настойчивостью излагает в письмах к матери», – отмечает Карабчевский, подчеркивая: студент Довнар – вовсе не наивный юноша, и наивно выставлять его жертвой коварной обольстительницы. Более того, она вовсе не «эксплуатировала денежные средства Довнара», как это нередко звучало в устах обвинения. Наоборот: это Довнар пользовался ее средствами!..
Палем, по словам Карабчевского, – «безалаберный комок нервов, где сплетено столько здравых и вместе столько больных комбинаций. Нет никакой возможности отделить все симпатичные, чисто женственные черты ее характера от отрицательных. Ее приходится принимать такой, какова она есть, считаться со всеми особенностями ее характера… Вокруг нее не было близких, ее некому было пожалеть. Одна, как ветер в поле… За мною сидит Палем, на мне лежит ответственность за ее судьбу».
Карабчевский поведал присяжным заседателям настоящую жизненную драму. Начал с того, что барышня выросла в условиях «довольно заскорузлой и ветхозаветной» еврейской семьи. Приняла православие, после чего с семьей ей пришлось расстаться. Старики, хоть и не проклинали свою некогда любимую Меню, но не хотели жить с вновь нареченной Ольгой. От своего крестного отца, генерал-майора Василия Попова, известного крымского богача, она получила 50 рублей и право именоваться, если не его фамилией, то, во всяком случае, его отчеством «Васильевной».
С таким легковесным «багажом» она отправилась в Одессу, там поступила в горничные, но вскоре ее уволили, поскольку выяснилось, что она белоручка, затем она работала в табачной лавочке. Спустя некоторое время одесский пристав стал встречать ее уже «хорошо одетой»: она стала содержанкой богатого господина.
Именно там, в Одессе, она познакомилась с жившим там семейством Довнар. Александру тогда исполнился двадцать один год, он стал оказывать барышне знаки внимания. Ольга обожала верховую езду, и мать Довнара не раз приветствовала поощрительной улыбкой «затянутую в рюмочку» грациозную и изящную амазонку, вскакивавшую на лошадь в своем черном элегантном наряде.
Отношения барышни и студента в Одессе продолжались два года, она даже представляла Довнара своим женихом, тот не был против. Ольга сочинила историю о своем татарско-княжеском происхождении, но когда в конце концов Довнар узнал правду, это не изменило их отношений.
Осенью 1891 года Довнар отправился в Петербург поступать в Медицинскую академию, барышня отправилась вслед за ним. Они поселились вместе на Кирочной, занимали небольшую квартиру. Прислуге, швейцару, дворникам Довнар выдавал Палем за свою жену. Даже письма, получаемые ею, имели адресатом «Ольге Васильевне Довнар». И только в документах она значилась как «симферопольская мещанка Ольга Васильевна Палем». Жили молодые, как положено молодым влюбленным: за ссорами следовали бурные и страстные примирения. Ольга даже говорила, что она «тайно обвенчана».
Но затем Довнар охладел к своей возлюбленной и стал говорить «живу с барынькой». Она, в свою очередь, стала проявлять настойчивость: «Женись на мне, ты обещал!» Он или отделывался шуткой, или ссылался на то, что студентам вступать в законный брак не дозволяется. А то и вообще грозил, что уйдет к матери.
Отношения стали резко ухудшаться. Довнар потребовал выселить госпожу Палем из своей квартиры, арендованной на его имя, и разделить их имущество. Фактически – выставил ее на улицу.
«Будь она даже та продажная женщина, о которой говорить здесь больше не решаются, разве так расстаются, разве таким способом отделываются и от продажной женщины? А ведь с этой женщиной, как-никак, он прожил четыре года, и, по собственному сознанию господ обвинителей, эта женщина была ему верна. С собакой, которая четыре года покорно лижет вашу руку, не расстаются так, как расстался Довнар с Палем! Он жил теперь уже у матери, он вырвался из ее сетей. Чего же еще ему было нужно?» – восклицал адвокат Карабчевский.
Во всех своих жалобах она, однако, всюду выгораживала Александра Довнара, которого продолжала страстно любить. Она видела в нем бесхарактерного и малодушного человека, всецело попавшего под влияние матери. Она даже пожаловалась директору института, где учился Довнар, ее там сочувственно выслушали, рекомендовали защиту ее интересов известному, пользующемуся всеобщим уважением адвокату и опытному юристу, присяжному поверенному Андреевскому.
В конце концов произошло примирение: Довнар заявил, что он ничего не имеет против того, чтобы жить по-прежнему с Ольгой Палем, обязывался ее не бросать, она же, в свою очередь, обязалась не требовать от него насильственного брака «и не подавать никуда жалоб». В этом смысле с той и с другой стороны были выданы даже «подписки», заверенные в канцелярии Института путей сообщения.
Они снова попробовали жить вместе, но «склеить» отношения было уже невозможно. Кончилось все скандалами, врач констатировал у барышни глубокое расстройство нервов и прописал ей абсолютный покой. «Нет той часовни, в которой бы она не побывала, нет того чудотворного образа, которому бы она не помолилась. Мысль о Довнаре, исключительно о Довнаре, ни о чем больше, преследует ее, мучит, терзает, – отмечал Карабчевский. – А ее бывший возлюбленный между тем следовал совету своей матери: как будто ты ее вовсе не знаешь».
Выслушав проникновенную речь Карабчевского, присяжные заседатели признали подсудимую невиновной «во взведенном на нее обвинении». Однако уже через несколько дней министр юстиции поручил прокурорскому надзору обратиться с кассационным протестом в Правительствующий Сенат. Тот после довольно продолжительного совещания определил: решение присяжных заседателей приговор окружного суда отменить и передать дело в Санкт-Петербургскую судебную палату для нового рассмотрения в другом составе.
В тот же день Ольгу Палем вновь арестовали. Для «исследования состояния ее умственных способностей» ее поместили в больницу Св. Николая Чудотворца. Врачи-психиатры сделали вывод, что преступление было ею совершено в припадке умоисступления, но окружной суд с этим не согласился, и Ольгу Палем вновь предали суду.
Во второй раз ее судили в окружном суде 18 августа 1896 года. На этот раз яркая речь защитника не спасла Ольгу Палем от тюрьмы. Присяжные признали ее виновной в непреднамеренном убийстве, совершенном в запальчивости и раздражении, но дали ей снисхождение. На основании этого вердикта суд приговорил ее к десятимесячному тюремному заключению. Правительствующий Сенат подал жалобу на этот приговор, считая его излишне мягким, но она была оставлена без последствий.
Двое в лодке
В мае 1885 года Санкт-Петербургский военно-окружной суд рассматривал дело поручика Владимира Михайловича Имшенецкого. Его обвиняли в том, что он утопил свою жену, которая незадолго до этого завещала ему богатое наследство. Дело оказалось скандальное, запутанное, связано с любовным треугольником. Столичная публика внимательно следила за ходом процесса, тем более что защитником выступал Николай Карабчевский.
Дело обстояло следующим образом. Поручик Имшенецкий в феврале 1884 года женился на дочери весьма состоятельного купца Серебрякова, Марии Ивановне. Вскоре он получил от жены нотариально заверенное завещание, по которому в случае ее смерти наследовал ее дом и все ее имущество.
Злые языки говорили, что на Серебряковой поручик женился исключительно по расчету. И без того небогатый, он задолжал Серебрякову, Мария Ивановна же была беременна от другого мужчины. Сам же поручик до свадьбы влюбился в дочь обедневшего купца Елену Ковылину, который не мог дать за ней приданого…
Вечером 31 мая 1884 года супруги, любившие водные прогулки, сели в собственную лодку и отправились в сторону Финского залива. Впоследствии свидетельница Шульгина, жившая на даче близ Петровского моста, видела проследовавшую мимо лодку с двумя пассажирами, а затем, когда она скрылась, услышала крик о помощи.
«Ровно в десять часов я вышла на балкон (перед тем она взглянула на часы, так как ждала мужа к чаю)… минут через пять-семь ближе к берегу показалась лодка, выехавшая из-под моста; я видела лодку, на ней были две фигуры – мужчина и женщина; лодка проехала и скрылась из глаз моих за второй пристанью; вдруг раздался отчаянный крик о помощи», – рассказала Шульгина.
Имшенецкий впоследствии утверждал, что причиной всему стало желание его жены пустить ее на весла. Дескать, он отговаривал ее: «Погоди до Ждановки, там пущу!» Но она не хотела его слушать: мол, хочу попробовать грести против течения, и все тут. С этими словами, скинув через голову веревочку от руля, она поднялась в лодке во весь рост. При первом же своем движении Мария Ивановна вдруг покачнулась, хотя волнения на воде почти не было, и стремительно полетела в воду. Произошло это так быстро, что поручик не успел даже ухватить ее. Он тотчас же бросился за ней в воду, но жена буквально камнем пошла на дно, а сильное течение отнесло его в сторону, и он ничего не смог сделать.
Такова, разумеется, версия поручика, никто не видел, как именно, при каких обстоятельствах Мария Ивановна выпала с лодки. Непосредственных свидетелей несчастья не было. Что же касается крика о помощи, то его услышал также сторож Петровского моста. Он вышел из будки и ясно различил пустую лодку, фигуру в воде и спешивших к месту катастрофы яличников.
Один из них, Филимон Иванов, вытащил поручика Имшенецкого из воды. «Когда пошел дождь, я был в будке; дождь перестал, я вышел из будки на плот. Стоя на плоту, вдруг слышу мужской голос: “Спасите!” Я огляделся, вижу: по течению поперек плавает лодка, и от нее в двух-трех шагах в воде по горло плавает человек. Я вскочил в ялик и бросился на помощь», – рассказал Иванов.
По его словам, когда он затащил поручика в свой ялик, тот исступленно закричал: «Где моя Маша?» – «Сидите смирно, – заявил яличник, – вашей Маши нет уже». Офицер стал кричать еще сильнее: «Где Маша, где Маша?!» Снял с себя часы, протянул их яличнику: «Спасите мою Машу!»
Сбежались дачники, и к тому времени, когда яличник доставил Имшенецкого на причал, там уже собралась толпа. Свидетели говорили, что поручик дрожал, стучал зубами, истерически рыдал, его било, как в лихорадке. По словам уже упомянутой выше Шульгиной, которая была ближе всех к поручику, он держал в руках шляпу жены, целовал ее, плакал, говорил отрывисто и несвязно, все время повторял: «Что я скажу старикам, что я скажу?..»
Когда поручика привезли домой, с ним случился истерический припадок, о чем свидетельствовал доктор Тривиус. Последовавшую ночь Имшенецкий провел в бреду. Той же ночью приехал отец Марии Ивановны, он застал поручика в жутком состоянии, тот беспрестанно причитал: «Маня, Маня, Маня!»
Когда через несколько дней труп утопленницы достали из воды, Имшенецкий уже не рыдал. Как сообщал судебный следователь Петровский, поручик имел вид очень утомленного и убитого горем человека. Из-за жаркой погоды труп начал разлагаться, лицо покойной вздулось и посинело…
Мать и сестра погибшей утверждали, что Мария Ивановна хорошо плавала, поэтому у следствия возникло подозрение: не оглушил ли поручик свою жену перед тем, как она упала в воду? Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила каких-либо прижизненных повреждений на трупе. Но зато установила, что покойная была беременна. Для Имшенецкого это известие стало настоящим шоком: жена ему об этом ничего не говорила.
Обвинение утверждало, что Имшенецкий утопил жену, чтобы завладеть ее имуществом и жениться на Ковылиной. Более того, купец Серебряков заявил, что три дня до трагедии Имшенецкий будто бы жестоко истязал свою жену. При этом отец покойной ссылался на слова некоего прохожего, который во время поисков трупа покойной сказал приказчику Серебрякова: «Бедная, какие истязания приняла она в последние дни». И стремительно удалился в глубину Крестовского острова…
Прокурор обвинил поручика в предумышленном убийстве жены, ему грозила бессрочная каторга. Имшенецкий вину не признал, объясняя все трагической случайностью.
Складывалась ситуация, что не было веских доказательств ни в пользу вины поручика, ни в пользу его невиновности. В таких ситуациях, как это нередко бывало, решающей становилась речь защитника. Им выступил Николай Карабчевский. «Вы не подпишите приговора по столь страшному и загадочному обвинению до тех пор, пока виновность Имшенецкого не встанет перед вами так же живо и ярко, как сама действительность», – заявил защитник, обращаясь к судьям.
Карабчевский указывал, что как раз после женитьбы на поручике Мария Ивановна «и поздоровела, и расцвела, и оживилась, что самые последние дни перед смертью, как и во время замужества, между нею и мужем отношения были прекрасные». Более того, муж был с ней мил и любезен, она же не скрывала даже перед посторонними своей горячей любви, преданности и благодарности.
Об этом свидетельствовали прислуга Серебрякова – дворники и кухарки. Даже за несколько часов до трагедии супруги были веселы, шутили, строили планы, как проведут лето. И в таком приподнятом настроении поехали кататься на лодке.
Нашлись свидетели того, как супруги садились на пристани в лодку. Содержатель причала Файбус удостоверил на суде, что Мария Ивановна, которая «всегда храбро и смело садилась в лодку, нисколько не робела на воде и отлично правила рулем», и этот раз не менее охотно и радостно отправилась на обычную прогулку. Маршрут их также был почти заранее известен: по Неве до Тучкова моста, отсюда в Ждановку и через Малую Невку к взморью.
«Таким образом, все подозрения, касающиеся “истязаний” и того, будто бы Имшенецкий чуть ли не насильно посадил жену в лодку, – не более как плод беспощадного разгула мрачной фантазии Серебрякова, привыкшего в собственном своем доме все вершить деспотическим насилием», – категорично заявил Карабчевский.
Карабчевский заявил, что если бы даже поручик имел умысел утопить свою жену, то сугубо по соображениям логики не стал бы делать этого там, где произошла трагедия, поскольку место просматривалось со многих сторон, а вокруг немало гуляющей публики.
«На месте происшествия мы были с вами, судьи, – заявил защитник. – Утверждать, что это место “глухое”, “безлюдное” – значит грешить явно против истины. От самого Петровского моста и до пристани “Бавария” вдоль всего берега, ближе к которому и имело место происшествие, идет сплошной ряд двухэтажных населенных дач. На набережной ряд скамеек для дачников, по берегу несколько плотов и пристаней. Достаточно вспомнить, что в самый момент катастрофы везде оказались люди, которых нельзя было не видеть и с лодки…»
Весьма пикантное обстоятельство то, что Мария Ивановна была беременна. Всячески отводя обвинение от поручика, Карабчевский сослался на мнение экспертов-врачей: мол, в первые месяцы сама по себе беременность не может стеснять и мешать легкости движений, зато иногда вызывает головокружение и болезненное замирание сердца. Быть может, у покойной от быстрого движения как раз закружилась голова, в таком состоянии она могла покачнуться и в этом разгадка всего несчастья?
Против Имшенецкого говорило несколько обстоятельств: завещание покойной в его пользу, его нежелание уступить добровольно наследство Серебрякову, а также то, что поручик во время обыска разорвал какое-то письмо…
«Относительно всех этих весьма серьезных, с первого взгляда, обстоятельств должен сказать одно: если Имшенецкий убил свою жену, они имеют громадное усугубляющее его вину значение; если же он ее не убивал, они не имеют для дела ровно никакого значения, – заявил Карабчевский. – Ими самая виновность его отнюдь не устанавливается.
Покойная, страдавшая во время беременности разными болезненными припадками, могла, естественно, подумать о том, чтобы имущество, в случае ее смерти бездетной, не перешло обратно отцу, которого она и не любила, и не уважала. Завещая все любимому мужу, она отдавалась естественному побуждению каждой любящей женщины: сделать счастливым того, кого любишь. Завещание делалось не таясь, у нотариуса, по инициативе самой Марии Ивановны, как удостоверяет свидетель Кулаков».
Разорванное письмо действительно свидетельствовало не в пользу поручика, его автор – его любовница Ковылина, в нем Имшенецкий обвинялся в измене. Откуда стало известно о содержании письма? Перед тем как поручик изорвал его в клочья, судебный следователь Петровский успел все-таки с ним ознакомиться.
«Подобные письма с отзвуками старой любви найдутся в любом письменном столе новобрачного, – заявил защитник. – К тому же надо заметить, что обыск был 10 июня, а Имшенецкий уже знал, что по жалобе Серебрякова начато против него уголовное дело».
По мнению Карабчевского, если бы его подзащитный считал злополучное письмо уликой, у него было десять дней на то, чтобы уничтожить его. А разорвал он письмо потому, что не хотел впутывать в дело молодую девушку. Как выяснилось, после случившейся трагедии Ковылина стала жалеть поручика, он заявил ей, что снова готов принадлежать только ей. Назначал свидания, писал письма…
Как отмечал Карабчевский, его подзащитный «отличный сын, брат, товарищ и служака», но в нравственном отношении, увы, отличается «дряблостью» и «неустойчивостью в принципах». Однако «демонические замыслы и титанические страсти» ему совершенно не по плечу.
Защитник утверждал, что обвинение против поручика совершенно несостоятельно, и это понимает даже купец Серебряков: «Я готов допустить, что он желает только “отомстить”, но к каким ужасным приемам он прибегает?! Даже в отдаленную и мрачную эпоху кровной мести приемы эти показались бы возмутительными…» Завершая свою речь, Карабчевский заявил: убийство не доказано, как не доказан и злой умысел со стороны Имшенецкого.
Яркая речь защитника действительно произвела впечатление на судей. В итоге суд признал поручика «виновным в неосторожности» и приговорил его к церковному покаянию и трехнедельному пребыванию на гауптвахте.
А что же дальше? Спустя полгода, в январе 1886 года, он женился на Елене Ковылиной. Из Петербурга они перебрались в Екатеринбург. Имшенецкий занялся предпринимательством, затем увлекся золотодобычей. В семье родилось шестеро детей. Во время Гражданской войны семейство перебралось в Харбин, там Имшенецкий открыл ресторан и казино.
В 1920 году, уже в Харбине, Елена Ковылина скончалась. Владимир Имшенецкий, овдовев во второй раз, снова женился – на Маргарите Викторовне Лукашевич, которая была почти вдвое младше его. С ней он перебрался в США, где дожил до весьма преклонных лет и скончался в 1942 году.
«Не внимай его речам и не верь его очам»
Весной 1913 года в рижских газетах появилось краткое сообщение такого содержания: «…проживающий по Церковной ул., 45, вольноопределяющийся 16-го Иркутского гусарского полка потомственный дворянин Всеволод Князев из браунинга выстрелил себе в грудь. Князева доставили в городскую больницу». Речь шла о начинающем, весьма талантливом поэте, вкусившем прелести петербургской богемной жизни. После трагического инцидента он прожил еще неделю. Похоронили его в Петербурге на Смоленском кладбище. Причина безвременной гибели – безответная любовь…
Всеволоду Князеву было всего двадцать два года, окончил Тверское кавалерийское училище и поступил вольноопределяющимся в 16-й Иркутский гусарский полк, расквартированный в Риге. Талантливый юноша по примеру своего окружения баловался стихосложением, у него это неплохо получалось… Осенью 1909 года в редакции одного из литературных журналов судьба столкнула его с уже маститым поэтом Серебряного века – Михаилом Кузминым. Литературоведы считают его первым в России мастером свободного стиха.
Современникам Кузмин казался фигурой странной, непонятной, загадочной. По воспоминаниям Георгия Иванова, наружность его была вместе уродливая и очаровательная: «Маленький рост, смуглая кожа, распластанные завитками по лбу и лысине, нафиксатуаренные пряди редких волос – и огромные удивительные византийские глаза…»
Михаил Кузмин взялся опекать юное дарование – Всеволода Князева, помогал с публикацией его произведений, даже посвятил ему цикл стихотворений «Осенний май».