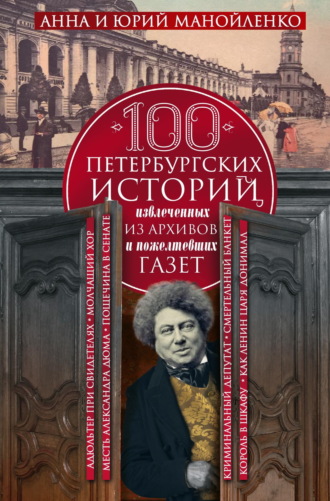
Полная версия
100 петербургских историй, извлеченных из архивов и пожелтевших газет

Анна и Юрий Манойленко
100 петербургских историй, извлеченных из архивов и пожелтевших газет

«ШТРИХИ» И «ЧЕРТОЧКИ», ПОРТРЕТОВ ГОСУДАРЕЙ, МИНИСТРОВ И ПРИДВОРНЫХ, КОТОРЫЕ НЕ ВОШЛИ В ИХ ПАРАДНЫЕ БИОГРАФИИ

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ О ХУДОЖНИКАХ, СТУДЕНТАХ, ДОМОХОЗЯЙКАХ, ОФИЦЕРАХ, ДВОРНИКАХ, СТОРОЖАХ И ДР. ПЕТЕРБУРГСКИХ ОБЫВАТЕЛЯХ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
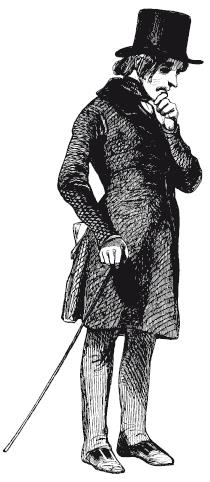
ОСОБАЯ, НЕПОВТОРИМАЯ АТМОСФЕРА ПЕТЕРБУРГА, КОТОРАЯ ВДОХНОВЛЯЕТ НАС ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

КНИГУ МОЖНО ЧИТАТЬ С ЛЮБОГО МЕСТА КАЖДАЯ ИСТОРИЯ – САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ НЕВЫДУМАННЫЙ СЮЖЕТ

© Манойленко А.С., Манойленко Ю.Е., 2025
© «Центрполиграф», 2025
К читателям

Дорогие друзья!
Книга, которую вы держите в руках, состоит из невыдуманных историй. На протяжении 10 лет мы занимались их поиском в архивах и библиотеках, чтобы рассказать о неизвестных страницах прошлого любимого города.
Вы прочитаете о государях, министрах и придворных – и сможете узнать те «штрихи» и «черточки», которые не вошли в их парадные биографии. Но главные герои книги – это петербургские обыватели XIX – начала XX веков. Студенты, домохозяйки, офицеры, дворники, сторожа, художники – все те, кто дышал влажным воздухом Северной столицы, любовался красотой улиц и площадей, радовался редкому солнышку и печалился событиям повседневной жизни. Вместе они создали особую, неповторимую атмосферу Петербурга, которая вдохновляет нас по сегодняшний день.
Эту книгу можно читать с любого места. Мы намеренно не стали разбивать ее по хронологическому или тематическому принципу. Каждая история – самостоятельный сюжет, маленький элемент бесконечно разнообразной петербургской мозаики.
Приятного и увлекательного вам чтения!
Благотворительность чистой воды

В начале XX века Петербург, как и многие крупные города Российской империи, особенно остро столкнулся с проблемой очистки питьевой воды. Ее плохое качество приводило к возникновению эпидемий, уносивших жизни сотен столичных жителей. Определенному улучшению санитарной обстановки в городе способствовал переход к централизованному водоснабжению, когда вода стала очищаться на водопроводных станциях при помощи специальных очистных устройств, преимущественно английского производства. Однако существенным недостатком этих фильтров было то, что они быстро засорялись взвешенными веществами, образующимися летом в открытой воде, и качество очистки заметно снижалось.
Исправить ситуацию попытался отставной капитан 2-го ранга Николай Филькович. Будучи в Париже в 1909 году, он ознакомился с процессом очистки питьевой воды при помощи изобретенных французскими инженерами фильтров Puech-Chabal. Удостоверившись в «простоте и экономичности» способа, Филькович пришел к убеждению: использование фильтров в России позволит решить проблему получения чистой воды. Он обратился в петербургское градоначальство с предложением установить на главной водопроводной станции пробные фильтры, чтобы выяснить степень их пригодности для невской воды.
Столичные власти отказались пойти на эксперимент, и тогда отставной офицер осенью 1910 года предложил Институту экспериментальной медицины заключить с ним договор о сотрудничестве. Согласно заключенному договору, институт обязывался провести исследования очистной работы фильтров, которые Филькович установил за свой счет, а затем опубликовать результаты. По истечении двух лет фильтры переходили в собственность института.
Фильковичу предоставили участок в усадьбе Императорского института на Аптекарском острове, где на собственные деньги рационализатора осуществили монтаж фильтров Puech-Chabal. Степень очистки воды оказалась столь высока, что позволила Медицинскому совету Министерства внутренних дел рекомендовать французские фильтры для применения.
Вдохновленный успехом, Филькович в апреле 1913 года обратился в Министерство внутренних дел с ходатайством о возвращении ему 40 тысяч руб., израсходованных на устройство фильтров. Обращение препроводили министру финансов Владимиру Коковцову, однако тот счел компенсацию невозможной. Он посчитал, что эксплуатация фильтров в Императорском институте носила характер рекламы, а установка осуществлялась добровольно и не была связана с какими-либо обязательствами со стороны государства.
Тогда Филькович решил дойти до самых верхов. Осенью 1913 года он опубликовал хвалебную статью о фильтрах в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и обратился к дворцовому коменданту Владимиру Дедюлину с просьбой доложить о своем деле императору Николаю II. Однако и здесь капитана ждало разочарование. В ответ на его письмо Дедюлин прислал телеграмму: «Вопрос о фильтрах, как не входящий в мою компетенцию, не считаю себя вправе докладывать, и вообще делу этому ход дать не могу».
После того как 30 января 1914 года новым министром финансов вместо ушедшего в отставку Коковцова стал Петр Барк, Филькович вновь решил попытать счастья и 1 марта подал министру записку с просьбой возврата денег. Однако и теперь итоги обращения оказались неутешительными. По поручению Барка канцелярия министра подготовила ответ: «Его Превосходительство затруднился согласиться на возмещение господину Фильковичу израсходованных им средств, так как затраты были произведены добровольно, с целью рекламы».
Тем временем капитан разразился личным письмом к Барку, в котором замечал: «Справедливость требует возместить мне не только 40 тысяч руб., но и суммы гораздо большей, так как я никакой рекламы никому не создал, а принес Правительству громадную пользу…»
Летом 1914 года началась Первая мировая война, всецело заслонившая для Министерства финансов историю с фильтрами. В качестве главы ведомства Барк вел в странах Антанты переговоры о займах, а в феврале 1915 года, вернувшись из очередной поездки, обнаружил у себя на столе телеграмму следующего содержания: «Покорнейше прошу принять поздравление с благополучным возвращением из Франции и Англии. Надеюсь теперь, что мне будут возвращены мои расходы, ибо нужда в деньгах у меня очень острая. Филькович».
Выяснилось, что капитан до сих пор не получил ответа на свои обращения. Причина этого оказалась банальна: он не представил в Министерство финансов две гербовые марки для оплаты пошлины. В итоге Петроградской казенной палате поручили взыскать с Фильковича полтора рубля гербового сбора, чтобы министерство имело возможность направить ему официальный ответ об отказе в компенсации.
После Февральской революции и смены власти в России Филькович снова попытался вернуть деньги.
11 апреля он подал в Министерство финансов Временного правительства подробную смету расходов на установку фильтров и вновь просил об их возмещении. Не получая ответа, капитан обратился с письмом на имя товарища (заместителя) министра финансов Владимира Кузьминского, в котором просил вернуть ему «половину затрат». Письмо завершалось философским посылом: «Кто знает, что оказанная мне сегодня справедливость завтра будет вознаграждена сторицей для Вас?»
Кузьминский запросил в Министерстве внутренних дел справку по существу ходатайства и вскоре получил заключение, в котором отмечалось, что Институт экспериментальной медицины не только выполнил все обязательства, но и провел «тысячи различных опытов и исследований», стоимость которых во много раз превысила расходы на установку фильтров.
Летом 1917 года Филькович направил товарищу министра финансов еще одно письмо, на этот раз из Владикавказа. Капитан сообщал, что избран членом Поместного собора Российской православной церкви от Терской епархии и намерен выехать к месту его проведения, в Москву, сразу по получении «причитающихся ему» денег. «От Вас теперь зависит благосостояние всех нас», – убеждал он Кузьминского.
20 сентября 1917 года на имя Фильковича было направлено официальное уведомление о том, что «товарищ министра признал ходатайство неподлежащим удовлетворению». Через месяц произошла Октябрьская революция…
Дальнейшая судьба Фильковича неизвестна, но можно предположить, что возвращения своих денег он так и не дождался. В истории отставной капитан 2-го ранга остался «благотворителем поневоле», чьи фильтры в течение многих лет очищали воду для Института экспериментальной медицины.
Настоящий Башмачкин

Повесть «Шинель» Николая Васильевича Гоголя – о злоключениях бедного чиновника Акакия Башмачкина, добывавшего хлеб переписыванием бумаг в «одном департаменте» Петербурга, увидела свет в начале 1843 года. А спустя двадцать лет в нашем городе произошли события, удивительным образом перекликающиеся с сюжетом произведения.
Все началось ноябрьским днем 1863 года в особняке петербургского генерал-губернатора на Большой Морской улице – эту должность в ту пору занимал внук и тезка знаменитого полководца Александр Суворов. Прямо в приемной случилась неприятность: один из посетителей, полковник Дмитрий Дурново, собираясь на выход, не нашел оставленную им верхнюю одежду. Вместо изящной шинели «на скунсовом меху» с большим воротником, сшитой в модном ателье и обошедшейся в 150 руб. серебром, на вешалке висела совсем другая, старая и потертая, явно происходящая из магазина готового платья, а из ее кармана выглядывало видавшее виды кашне…
Опрошенные сторожа вспомнили: похожая одежда была на молодом человеке, неоднократно заходившем в губернаторскую канцелярию к коллежскому советнику Иерониму Грассу. Узнав от того имя и адрес, полиция без труда отыскала похитителя.
Им оказался 29-летний нигде не служащий дворянин Адам Кучинский. Сначала он пытался свалить всю вину на некоего барышника, которому будто бы променял в тот день шинель на пальто. Но потом сознался в похищении полковничьей шинели, сообщив, что продал ее торговцу Прокофьеву на Семеновском плацу за 28 руб. серебром и «пальто впридачу». В лавке Прокофьева пропавшую вещь обнаружили и вернули законному владельцу. А для Адама Кучинского началась долгая следственная эпопея…
Свой поступок он объяснял «припадком самозабвения и безумия, в каковое состояние был приведен крайностью своего положения». Представитель бедного дворянского рода из Минской губернии, в 1850-х годах Адам приехал в Москву, где слушал университетские лекции и зарабатывал на жизнь уроками. Результатом физического измождения и постоянной нужды стали периодические приступы «беспамятства», продолжавшиеся с Кучинским и в Петербурге.
Здесь его зачислили в Медико-хирургическую академию (ныне – Военно-медицинская академия) «своекоштным» студентом, т. е. он должен был оплачивать посещение. Жизнь в столице оказалась на порядок дороже, чем в Первопрестольной, и вскоре молодому человеку пришлось оставить учебу. Устроиться на службу не удалось, поэтому единственным источником пропитания для него служила помощь сердобольных людей и чиновника Грасса, тот давал Адаму переписывать бумаги и платил за это небольшие деньги.
Состояние Кучинского особенно ухудшилось после пожара, случившегося зимой 1862 года в квартире дворян Григорьевых, из сочувствия предоставивших ему угол. Огонь уничтожил последнее имущество Адама, поставив его на грань крайней нищеты: «И без того слабый ум его окончательно помрачился, и прежние припадки повторялись почти каждую неделю, так что часто он вечером не мог вспомнить без помощи хозяев и знакомых, где и как провел минувший день».
Опрошенные полицией знакомые Кучинского подтвердили его бедственное положение и «расстроенное состояние». Приютившие его дворяне Григорьевы замечали за Адамом крайнюю рассеянность, забывчивость и невнятные разговоры. В день похищения шинели квартирант выглядел особенно странно: «Глаза его были мутны, и он говорил какой-то вздор, из которого ничего нельзя было понять». Но, невзирая на совет остаться и никуда не ходить, он отправился в канцелярию генерал-губернатора, чтобы «просить о помощи».
Кучинского освидетельствовали в столичной врачебной управе и признали вменяемым. Тем не менее эксперты оговорили, что для окончательного ответа на вопрос необходимо длительное наблюдение. В итоге похитителя поместили в больницу исправительного заведения при слиянии рек Пряжки и Мойки, где он оставался до осени 1864 года.
Получая стабильное питание и медицинский уход, молодой человек почувствовал себя лучше. На запрос Петербургского надворного суда врачи отвечали, что он в полном рассудке, но подвержен еще «трепетанию сердца» (аритмии), что может служить причиной новых приступов «самозабвения».
Суд посчитал состояние подследственного удовлетворительным и в ноябре 1864 года вынес приговор: «Дворянина Адама Кучинского за кражу на сумму свыше 30 руб. серебром, по лишении лично и по состоянию ему присвоенных прав и дворянского достоинства, сослать на житье в Тобольскую губернию».
Адам подал апелляцию, указывая на необходимость оставаться под наблюдением врачей, но Палата уголовного суда утвердила приговор, сделав лишь некоторые «послабления»: Кучинскому возвратили изъятые при аресте полицией шинель, кашне и 60 копеек серебром, а Тобольскую губернию заменили Томской.
Затем документы поступили в Сенат, который посчитал возможным «во внимание к обстоятельствам участь Кучинского подвергнуть Монаршему милосердию». Весной 1866 года император Александр II согласился заменить Томскую губернию на Вологодскую, куда Адам Кучинский и отправился…
Беспокойное семейство

Дело о происшествии, которое легло на стол прокурора Санкт-Петербургского окружного суда Анатолия Федоровича Кони, связано с очевидным, на первый взгляд, эпизодом. Однако, как оказалось, он таил в себе немало «подводных камней». Тридцатилетнему юристу предстояло решить, продолжать ли следствие в отношении чинов местной полиции, обвиняемых в «оскорблении действием» канцелярского служителя Петергофского дворцового правления…
Июльской ночью 1873 года задержавшийся в гостях канцелярист Михаил Иванов возвращался по улицам Петергофа на квартиру, которую снимал вместе с отцом и двумя родными братьями – Алексеем и Василием. По дороге ему повстречался младший из них, Алексей, сообщивший печальную новость: глава семейства сильно повздорил с Василием.
Придя домой, Михаил уговорил родственников прекратить ссору, выпроводил Василия и уже собирался ложиться спать. Однако тут в комнату ворвались четверо полицейских и попытались его связать. «Отец мой стал защищать меня, – жаловался канцелярист в Петергофское дворцовое правление. – Тогда городовой Гриневич схватил отца моего за горло и стал давить его».
Стражи порядка скрутили Михаила и отвели в помещение для арестованных, где он провел остаток ночи, а наутро оказался выпущен «благодаря сочувствию добрых людей». Именно так выглядели события в изложении одной из сторон.
«Имею честь донести, что то и другое совершенно несправедливо», – рапортовал квартальный надзиратель Никитин петергофскому полицмейстеру полковнику Меньчукову. По его версии, дело обстояло совсем иначе: той злополучной ночью фонтанный подмастерье в отставке Степан Иванов, квартирующий с тремя взрослыми сыновьями в мезонине у домовладельцев Труниных, был нетрезв. Домашнюю компанию родителю составлял один из его отпрысков, Василий, также воздавший должное Бахусу. В какой-то момент вспыхнула ссора: «Отец требовал от сына Василия, улегшегося на двух простынях, одну из них, за что обеспокоенный Василий обругал отца».
Иванов-старший отвесил наследнику затрещину и тотчас получил от него кулаком в ответ. Тут в каморке появился навеселе сын Михаил, вступившись за честь отца, он принялся энергично тузить недостойного брата. «Таким образом, между ними увеличилась драка и шум, встревоживший более всего квартировавшего под квартирой Ивановых протоиерея Василия Зверева, а также других жильцов», – описывал ситуацию квартальный надзиратель.
Когда в дом явились городовые, священник буквально умолял арестовать членов беспокойного семейства, жалуясь на то, что они нарушают ночной покой, постоянно устраивают скандалы и дебоши. В итоге стражи порядка поднялись в мезонин, чтобы вмешаться в происходящее.
По версии надзирателя, Михаил Иванов побил полицейских, после чего его задержали. Пожилой отец вступил в схватку с правоохранителями – пришлось усмирять еще и его, а когда на крики явился самый младший – Алексей Иванов, «вооруженный» кочергой, дело приняло совсем скверный оборот…
Тем временем у дома собралась толпа из встревоженных жильцов соседних зданий, ожидавших исхода драмы. Протоиерей Зверев охотно делился со всеми подробностями бурной жизни семьи Ивановых, выражая надежду на их удаление. Правда, наутро он не выдержал и сам съехал из «нехорошего» дома.
Мировой судья, рассматривавший дело о ночных беспорядках и превышении полномочий городовыми, счел вину сторон «обоюдной» и прекратил производство. Это решение не устроило Михаила Иванова, заручившись поддержкой Петергофского дворцового правления, он обжаловал его перед съездом мировых судей. Но, вопреки надеждам канцеляриста, апелляционная инстанция «за нарушение спокойствия и тишины» наложила на него денежный штраф в размере 8 руб.
Документы же, касавшиеся полицейских, поступили к прокурору Анатолию Кони. Внимательно изучив все обстоятельства и взвесив аргументы сторон, он пришел к заключению, что оснований для продолжения уголовного преследования городовых нет. Дело было закрыто.
«А разве не правда?»

Происшествие, случившееся в августе 1860 года во время всенощного бдения в Александро-Невской лавре, оказалось настолько резонансным, что о нем доложили на самый верх: «Полагаю означенного дворового человека, который за настоящий поступок арестован, выслать посредством внутренней стражи на родину», – указывал петербургский генерал-губернатор Павел Игнатьев министру внутренних дел Сергею Ланскому.
Дело обстояло так: в то время, когда собравшиеся в храме верующие слушали проповедь священника, некий бородатый мужчина крестьянской наружности внезапно принялся громогласно и бойко рассуждать о скором освобождении крепостных… На него оборачивались и шикали, но «глашатай свободы» наперекор всему продолжал.
Присутствовавший на богослужении офицер полиции пробился к нему сквозь толпу и велел замолчать. Однако нарушитель спокойствия не собирался униматься и с чувством праведного возмущения заявил: «А что, разве не правда? Я знаю верно, что уже есть манифест о свободе крестьян».
После этих слов в храме воцарилась тишина. Крестьянская реформа была необычайно злободневной темой, активные споры о ней велись уже несколько лет и буквально лихорадили российское общество… Дабы не провоцировать кривотолков и споров в неподобающем месте, страж порядка счел за благо арестовать чересчур «осведомленного» обывателя.
Задержанный смутьян, как следует из архивных документов, оказался дворовым человеком (домашняя прислуга помещиков) из Рязанской губернии Нестором Денисовым. Будучи отпущен хозяином в столицу на заработки, он подвизался в лавке портного мастера Фриберга. Как значилось в отчете полиции, на храмовую службу Денисов явился в «весьма нетрезвом виде»…
В итоге слишком «осведомленным» крестьянином заинтересовалось Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, ведавшее политическим сыском. Однако каких-либо закулисных тайн и источников, связанных с ним, выведать не удалось, зато выяснилось, что портной Фриберг, равно как и квартирные соседи, отозвался о Денисове самым положительным образом: «Характера спокойного, в нетрезвой жизни не замечен и в исполнении своих обязанностей всегда был исправен».
Главный начальник Третьего отделения Василий Долгоруков доложил о Денисове императору Александру II. Тот распорядился проявить снисхождение к словоохотливому крестьянину и не высылать его из столицы.
Дальнейшая судьба Нестора Денисова неизвестна, но в публично заявленных надеждах на освобождение он оказался весьма близок к истине. Осенью того же 1860 года Редакционные комиссии, созданные для составления проекта крестьянской реформы, завершили работу, а спустя полгода после инцидента в Лавре, 19 февраля 1861 года, Александр II подписал манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей».
Дважды Лев

«Сын мой Лев, находящийся и ныне в Вашем ведении, в числе учеников Академии художеств, сильно желает вступить в нынешнее роковое время в действующие (не запасные) защитники правого дела, – так писатель и лексикограф Владимир Даль обращался к министру уделов Льву Перовскому и добавлял в качестве постскриптума: – Сын мой стреляет из винтовки довольно порядочно».
На календаре весна 1855 года, в Крымской войне Россия противостояла союзной коалиции Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинского королевства…
Единственный сын будущего автора «Толкового словаря» родился в 1834 году в Оренбурге. В ту пору Владимир Даль служил чиновником особых поручений при военном губернаторе и командире Отдельного Оренбургского корпуса Василии Перовском, который и стал крестным родителем новорожденного.
Лексикограф нарек своего первенца тремя именами: Лео Базиль Арслан. Первое – в память брата Льва, погибшего тремя годами ранее при штурме Варшавы во время польского восстания, второе – в честь собственного начальника, а третье в переводе с тюркского также означало «Лев». В письме сестре Паулине в 1835 году Даль сообщал: «У сына моего глаза голубые, волосы – не знаю, какие будут, теперь русые. Он бегает сам и ломает все, что в руки попадется. Большой разбойник».
В четырехлетием возрасте мальчик лишился матери. Через некоторое время отец снова женился, вторая супруга Екатерина Львовна родила дочь Марию… Осенью 1841 года семья переехала в Петербург – к новому месту службы лексикографа, ставшего секретарем товарища (заместителя) министра Императорского двора и министра внутренних дел Льва Перовского. В казенной квартире в доме министра, расположенной в доме за Александрийским театром, на свет появились две сестры маленького Льва – Ольга и Екатерина.
Очевидно, в детстве мальчик испытывал недостаток родительского внимания. Мачеха была занята собственными дочерьми и не сильно отвлекалась на пасынка, отец слишком загружен служебными и литературными делами – руководил Особенной канцелярией министра внутренних дел, обрабатывал «запасы» слов и выражений для словаря, работал над повестями, рассказами и очерками.
К тому же Владимир Иванович не отличался легким характером. Молодой писатель Дмитрий Григорович, часто навещавший Даля, вспоминал: «Семейство его, состоявшее из нескольких дочерей и одного сына, положительно его побаивалось». Быть может, не слишком счастливое детство послужило тому, что, став взрослым, Лев-Арслан так и не создал собственную семью…
В возрасте 18 лет он поступил в Императорскую Академию художеств и за успешную учебу был награжден двумя серебряными медалями. Однако продолжавшаяся Крымская война не оставляла Льва равнодушным, он попросил зачислить его в Стрелковый полк императорской фамилии, созданный «на время настоящей войны» по инициативе Николая I. Его комплектовали личным составом из крестьян удельных имений (принадлежавших членам царской семьи), выразивших добровольное желание «споспешествовать защите земли русской». Допускался прием и выходцев из других сословий, «если они докажут искусство в стрельбе».
Нести службу в подразделении, «напрямую выставляемом» от императорской фамилии, считалось престижным, и многие представители высшего общества (Толстые, Волконские, Дондуковы-Корсаковы, Бобринские и др.) стремились занять в нем офицерские должности.
Конкуренция была высокой, поэтому Владимир Даль счел нужным обратиться к своему начальнику и покровителю Льву Перовскому, на которого возложили формирование полка, с просьбой помочь сыну. Однако, невзирая на протекцию, юноша должен сначала доказать собственную «профпригодность».
Со здоровьем проблем не возникло, в Российском государственном историческом архиве сохранилось медицинское свидетельство, подтверждающее, что «сын статского советника Лев Владимирович Даль, имеющий от роду 21 год, телосложения крепкого и не подвержен никаким болезням или телесным недостаткам, могущим препятствовать вступлению его в военную службу».

