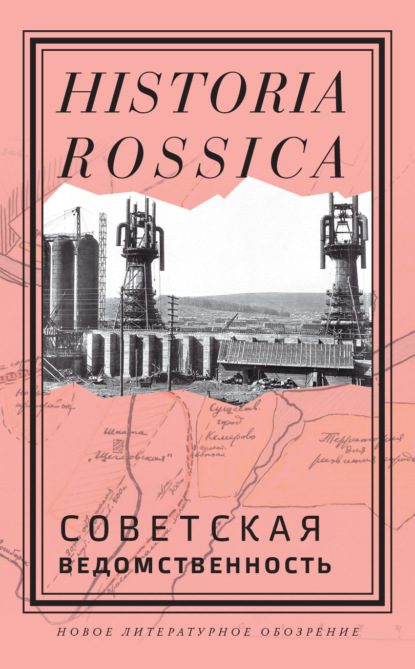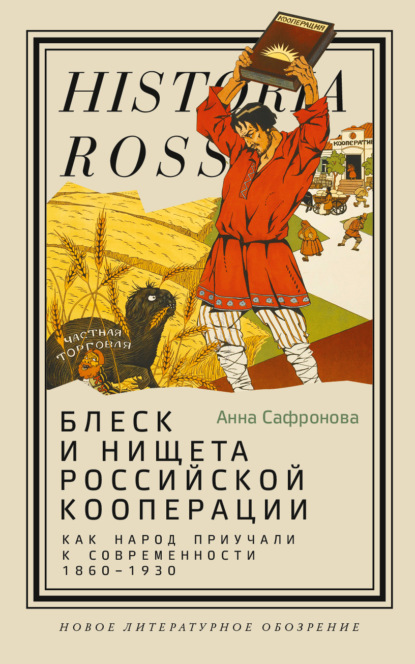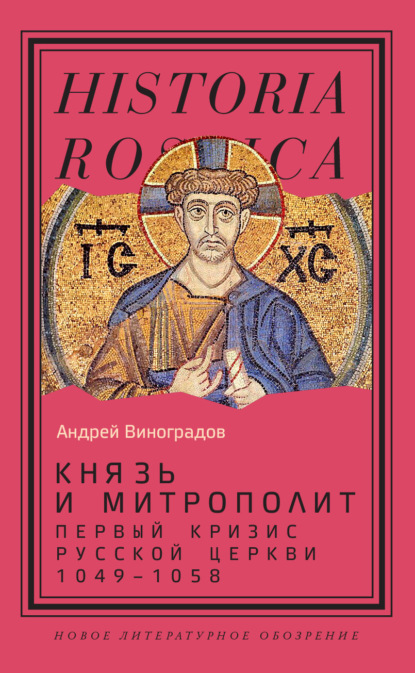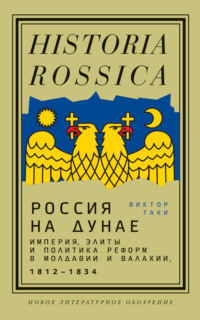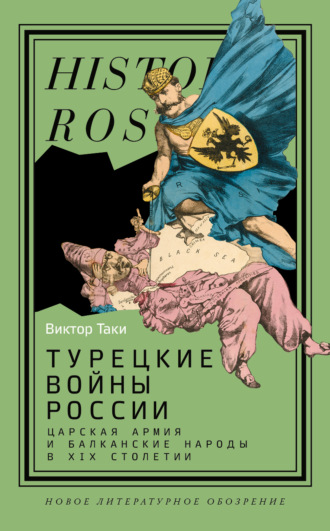
Полная версия
Турецкие войны России. Царская армия и балканские народы в XIX столетии
Наряду с уже привычным использованием арнаутов во время войны 1806–1812 годов имели место и первые попытки более массовой мобилизации христианского населения. В этом российские командующие следовали османской практике. По утверждению П. И. Багратиона, который командовал русской армией на Дунае в 1809–1810 годах, османы получали практически все свои резервы и провизию от турецких жителей Дунайской Болгарии, «которые весьма к войне приобыкли». Багратион отмечал, что «если всех тех военных обывателей оставить спокойными и безопасными в их уездах, то побегут они на помощь других уездов атакованных». По этой причине Багратион решил разделить армию на три корпуса, которые должны были действовать одновременно в восточной, центральной и западной части Дунайской Болгарии и тем самым лишить османское командование возможности опираться на местное мусульманское население76.
В то же время Багратион требовал, чтобы были соблюдены «правила дружелюбного обхождения с христианскими обывателями», чтобы хлеб и фураж были доступны для русской армии. С этой целью накануне кампании 1810 года Багратион запросил мнение русского агента на правом берегу Дуная Манук-бея Мирзояна относительно возможности восстания болгарского населения Тырново. Главнокомандующий также обратился к болгарскому архиепископу Софронию Врачанскому относительно перспектив подобного же восстания в области Видина77. Причем Багратион был не первым русским полководцем, интересовавшимся такой возможностью. Уже в апреле 1807 года Михельсон сообщал, что «все христиане вооружены и готовы подняться за нас». Михельсон также осознавал последствия такого восстания для мусульман и болгар-христиан. Он сообщал о том, что среди болгар «были разговоры о том, чтобы убить всех турок в Тырново», однако эти намерения сдерживались опасением, что русские войска не придут на помощь или же оставят их на произвол судьбы78.
То же опасение определило противоречивое отношение к идее восстания со стороны архиепископа Софрония. Болгарский пастырь подтвердил, что русская армия может рассчитывать на поддержку 10 000–15 000 вооруженных жителей в Тырново и окрестностях, однако «восстание болгарского народа не может последовать иначе, как с постепенным вступлением в землю их российских войск». Софроний в особенности просил, «чтобы невыдать их (болгар) подобно как то сделано было с греками Мореи при заключении мира в Кайнарджи»79. Не будучи в состоянии предоставить такие гарантии, Багратион решил не провоцировать османское возмездие в отношении болгар и оставил идею организации восстания. В результате генерал-майору Исаеву, чей отряд действовал между Видином и Нишем, было «строго запрещено подстрекать болгар к восстанию с оружием против турок». Вместо этого он должен был убедить болгар оставаться в своих селениях, обрабатывать землю, заботиться о своих хозяйствах и предоставлять русским войскам продовольствие и фураж, которые им были необходимы80. Вступление русской армии в Дунайскую Болгарию в конце весны 1810 года сопровождалось лишь обращением Софрония Врачанского к болгарскому населению, в котором архиепископ сообщал своим соотечественникам о грядущем спасении и призывал их не бояться русских войск и не относиться к ним как к чужеземцам81.
Хотя болгарских христиан целенаправленно не призывали к восстанию по приближении русских войск, они в ряде случаев брались за оружие и обращали его против мусульман. Так произошло, например, в деревне Арнаут-киой неподалеку от Разграда. В ответ на благодарственное обращение болгарских старейшин этого селения Н. Ф. Каменский объявил, что отныне они «навечно свободны» и что, даже если их селение останется под властью османов, они могут переселиться на левый берег Дуная, где «плодородные земли вас ждут, и братская нация (т. е. валахи. – В. Т.) открывает вам объятия»82. С точки зрения русского командования, целью вооружения болгарского населения была их самозащита. Однако на практике болгары присоединялись к русским отрядам в операциях местного значения, таких, например, как захват Джумлы, или для борьбы с турецкими партизанами. Последние представляли собой значительную проблему для коммуникаций русской армии, о чем свидетельствует, в частности, переписка по поводу вырубки леса вдоль узких дорог, проходивших через Делиорманский лес. Партии по 500–700 болгар, мобилизованных с этой целью, работали под прикрытием русских отрядов. Российские военные начальники также брали в заложники мусульманских детей, для того чтобы заставить их родителей отказаться от поддержки турецких партизан83.
Для того чтобы лишить османскую армию возможности пополнять свои запасы продовольствия и фуража, российские войска сжигали деревни в местах боевых действий и переселяли их жителей в тыл. И эта практика восходит к войне 1768–1774 годов, когда в конце 1769 года авангардный отряд Х. Ф. фон Штоффельна сжег 400 деревень в окрестностях османских крепостей Брэила и Джурджу, расположенных на северном берегу Дуная на бывших территориях валашского княжества, которые были отчуждены в так называемые райи, находившиеся под прямым управлением крепостных начальников84. В ответ на запрос Г. Г. Орлова и Екатерины II, обеспокоенных дурной славой, которую такие действия могли составить России в Европе, Румянцев признал, что сожжение селений «есть обычай воюющих варваров, а не Европейцев». При этом российский главнокомандующий утверждал, что война против османов имеет в себе «иные меры и иной образ, как во брани в других частях Европы». Выгоды сохранения селений не были очевидны в ходе боевых действий против османов, потому что «неприятель, ежели не успеет со всеми пожитками убраться, то сам оные истребляет, чтобы нам ничего не осталось». Если же сохранять селения, «то должно в опасности быть, чтобы оные не заразил неприятель, не знающий человечества, лютою язвой, что он неоднократно применял на гибель рода человеческого»85. Румянцев указывал на военную целесообразность сожжения селений, поскольку это лишало османов возможности закрепиться на левом берегу Дуная и оборонять Молдавию и Валахию. Главнокомандующий также уверял императрицу, что христианские жители сожженных селений были оповещены заранее и имели возможность перевезти свои пожитки на территорию княжеств. Мусульмане же, составлявшие большую часть жителей этих селений, бежали за Дунай еще при первом приближении русских войск86.
Впервые примененная в 1769 году на территории османских райя вдоль северного берега Дуная политика выселения местных жителей продолжалась в большем масштабе после форсирования реки русскими войсками четыре года спустя87. Так, внезапное появление в Добрудже русского отряда под командованием полковника Кличко вызвало поспешное отступление османских войск к Балканским горам, причем османы заставляли местное мусульманское и христианское население следовать за ними. Русские передовые отряды, отправленные в погоню, сумели захватить часть мирных жителей и переселить около 3000 из них на северный берег Дуная88. Одновременно генерал-майор Г. А. Потемкин, который вскоре после этого стал знаменитым фаворитом Екатерины II, переселил христианских жителей из окрестностей Силистрии, в то время как еще более знаменитый генерал-майор А. В. Суворов провел ту же операцию в окрестностях Туртукая89. К концу кампании 1773 года, перед отступлением через Дунай на север, русским войскам удалось собрать у Туртукая около 10 000 жителей-христиан и перевести их через реку90. По словам Румянцева, данные переселения составляли главный успех кампании этого года91.
Помимо организации переселения христианского населения с южного на северный берег Дуная, русские полководцы лишали османов возможности обеспечения своих войск провизией и фуражом. С этой целью корпус генерал-лейтенанта К. К. фон Унгерна, располагавшийся в Бабадаге в сентябре 1773 года, высылал специальные отряды вглубь страны, которые должны были не только уничтожать малые партии противника, но и помешать местным жителям собирать урожай92. В ноябре того же года русские партии были высланы для разорения прибрежных селений в районе Кюстенджии Варны. Это мешало османам концентрировать большие массы войск к северу от Балканского хребта в зимнее время года, что обеспечивало безопасность русской армии на зимних квартирах93. В 1774 году корпус М. Ф. Каменского сжег деревни вокруг Шумлы, хотя на этот раз целью было выманить великого визиря из этой неприступной крепости для защиты мусульманского населения94.
Кампания 1773 года установила сценарий, который будет повторяться в последующих русско-турецких войнах. Стратегия выжженной земли, применявшаяся как османской, так и русской армией, приводила к временной депопуляции Добруджи и Дунайской Болгарии. В войну 1787–1792 годов сожжение деревень и переселение жителей-христиан с южного на северный берег реки также имели место, хотя в гораздо меньшем масштабе, поскольку русские войска пересекли реку только в последний год войны и не продвинулись далее северной Добруджи95. Во время войны 1806–1812 годов масштаб этих переселений был таков, что к началу 1811 года вся территория на 100 верст к югу от Дуная была «совершенно обнажена от жителей», по сообщению возглавившего русскую армию М. И. Кутузова. После того как передовые партии на протяжении предыдущего лета «загнали все в Балканы», русские войска не могли рассчитывать на местную провизию и, как следствие, не могли продвигаться более чем на 30 верст к югу от реки96. Тем не менее даже преимущественно оборонительная стратегия, избранная Кутузовым на завершающей стадии войны, предполагала высылку малых партий вглубь османских территорий. «Болгарские селения приказано было щадить исключая хлебных и фуражных запасов, которые и в болгарских селениях сожжены с оставлением только пропитания на короткое время», – докладывал Кутузов Александру I97. В этой ситуации местные жители стояли перед трудным выбором между переселением вглубь османской Румелии и следованием за русской армией, отступающей на северный берег Дуная, что многие из них и сделали.
Уже в конце 1810 года отступление русской армии за Дунай на север сопровождалось переселением прорусски настроенных жителей-христиан из окрестностей Разграда и Джумлы, а отход флангового отряда М. С. Воронцова привел к подобной же эмиграции болгар из-под Плевны, Ловчи и Севлиево98. Переселение становилось своеобразной альтернативой антиосманскому восстанию в Дунайской Болгарии, возможность которого рассматривал Багратион в начале 1810 года. Когда болгарские старейшины из селений, располагавшихся между Дунаем и Балканами, попросили у Кутузова «на письме уверение, что ни в коем случае они Россиею в руки турков преданы не будут», главнокомандующий отверг их просьбу «дабы сих людей, горячностью веры движимых, не погубить безвременным ободрением их к подъятию оружия». Взамен Кутузов принял меры с тем, чтобы «привлечь сколь можно более такового рода людей, трудолюбивых и полезных, на сию сторону Дуная», и опубликовал соответствующий манифест99.
Переселенцам первоначально предоставили земли на территориях турецких райя Брэила и Джурджу, освободили от налогов на три года, однако обязали нести пограничную службу. Вскоре у переселенцев начался конфликт с валашскими чиновниками, которые стремились взимать с поселенцев налоги. Отражая желание переселенцев избежать тяжкой доли валашских крестьян, глава специально созданной администрации переселенцев А. Я. Коронелли предложил поселить задунайских выходцев в Бессарабии и придать им статус казацкого войска100. Несмотря на то что переселенцам в конце концов так и не удалось получить казацкого статуса, этот вариант оказался предпочтительней, чем проживание в окрестностях Брэилы и Джурджу, для примерно 4000 болгарских семей после того, как по Бухарестскому миру 1812 года Валахия и Молдавия были возвращены османам, а Бессарабия вошла в состав Российской империи.
Идейное наследие Отечественной войны 1812 года
Русско-турецкая война завершилась менее чем за месяц до вторжения Наполеона. В результате она осталась в тени первой в истории России «отечественной» войны, которая стала решающим фактором в развитии русской военной мысли вплоть до Первой мировой войны. Война 1812 года сильно отличалась от конфликтов XVIII столетия. Сколь важными ни были бы столкновения со шведами, пруссаками, поляками или османами, все они представляли собой периферийные войны, которые происходили на окраинах Российской империи или же вовсе за ее пределами. Напротив, война 1812 года впервые за два столетия сопровождалась боевыми действиями на территориях, которые составляли историческое ядро России101. Она была в полном смысле драматическим событием как для российских элит, так и для массы населения и вызвала патриотический подъем в верхах российского общества, некоторые представители которого вскоре начали воспринимать борьбу с Наполеоном как противостояние между Россией и Европой.
Результат этой эпохальной борьбы способствовал возникновению ряда устойчивых мифов как в Европе, так и в России102. В то время как французские и прочие европейские авторы приписали решительный разгром Наполеона «генералу Морозу», русские авторы усмотрели в нем доказательство военного превосходства своей страны. В то же время среди русского офицерства с самого начала существовали разные представления об относительной значимости отдельных компонентов российской военной мощи. Притом что практически все русские военные рассматривали победу над Наполеоном как плод исключительных качеств регулярной армии, некоторые из них также отмечали важность партизанской войны, которая велась на французских линиях фронта с момента Бородинского сражения и вплоть до изгнания остатков французских войск в декабре 1812 года.
Лев Толстой и советская историография придавали так много значения «дубине народной войны» в разгроме Наполеона, что ныне трудно осознать, насколько неоднозначным представлялось партизанское действие кадровым русским военным XIX столетия. Русские военные мемуаристы конца XVIII – начала XIX века демонстрировали приверженность гуманному обращению с гражданским населением и военнопленными, и им было явно не по себе от действий казаков и других нерегулярных частей103. Даже когда в 1812 году боевые действия проходили на исконно русской земле, казаки, по свидетельству адъютанта Александра I А. И. Михайловского-Данилевского, с трудом делали различие между вражескими частями и местным русским населением. По утверждению Михайловского, отряды донского казацкого атамана М. И. Платова грабили русские селения и усадьбы и отправляли добычу на Дон104.
Участие русского населения в сопротивлении французской армии также было неоднозначным в глазах русских офицеров, усвоивших принципы и методы «регулярной» войны. По свидетельству А. Н. Муравьева, крестьяне «привязывали [французов] к дереву и стреляли в них в цель, бросали живыми в колодец и живых зарывали в землю». Разумеется, тем самым крестьяне реагировали на действия французских фуражиров и мародеров, которые «мучили беззащитных крестьян, баб и девок, насильничали их, вставляли им во все отверстия сальные свечи и вещи, терзали их, на[д]ругавшись [над н]ими». Тем не менее жестокое обращение с теми французами, которым выпало несчастье попасть в плен к русским крестьянам, было столь же неприемлемым в глазах Муравьева, сколь неприемлемы были и жестокости самих французских солдат. Для Муравьева, как и для многих других офицеров мемуаристов, «народная война» была порочным кругом насилия, в котором «[л]юди сделались хуже лютых зверей и губили друг друга с неслыханной жестокостью»105.
Михайловский-Данилевский и Муравьев были примечательными представителями русской военной интеллигенции106. Они во многом напоминали европейского офицера-джентльмена XVIII столетия, который часто сочетал военную службу с литературой и философией, а также политической деятельностью107. Будучи пылкими патриотами, эти люди в то же время хорошо ориентировались в современной им морально-политической мысли и были способны выносить независимые суждения о состоянии русской армии, ее командующих, о своих сослуживцах-офицерах, о качествах и поведении русских солдат и, наконец, о достоинствах и пороках русской политической и общественной организации. Эта способность к критическому суждению приведет некоторых из них на Сенатскую площадь. Однако в контексте настоящего исследования более значимыми являются их представления о соотношении армии и населения, которые в общих чертах воспроизводили феномен так называемого «Военного просвещения». Как и французские «военные философы» (militaires philosophes), представители русской военной интеллигенции стремились придать войне более гуманный и рациональный характер108. Приверженность лучших русских офицеров этим принципам отражала среди прочего их желание опровергнуть укоренившиеся в Европе стереотипы о русских как нации, ведущей войну «варварскими» способами109.
Реакция европеизированных представителей российской элиты на наполеоновское вторжение свидетельствует о том, что они только начинали открывать для себя «народ». Всплеск патриотизма, вызванный Наполеоновскими войнами, носил по преимуществу элитарный, консервативный характер110. Носители этого патриотизма безусловно стремились мобилизовать население на защиту веры и отечества, однако опасались революционного эффекта, который могла возыметь такая мобилизация. В результате «народ», упоминавшийся в манифестах 1812 и последующих годов, представлялся послушным, преданным и готовым к самопожертвованию, а вовсе не главным действующим субъектом национальной истории111. Сразу же после войны в официальном дискурсе победа над Наполеоном стала объясняться Божьим промыслом, что неизбежно затушевывало «народный» аспект событий 1812 года112. Относительно немногочисленные в этот период репрезентации «народа» в произведениях литературы и искусства, посвященных войне 1812 года, носили весьма сдержанный и идеализированный характер и потому имели мало общего с шокирующими реалиями «народной» войны.
Консервативный поворот последнего десятилетия правления Александра I несомненно вызвал недовольство значительной части «поколения 1812 года», которое в конце концов привело к восстанию декабристов. Однако «народ» вряд ли являлся общим знаменателем для различных течений, существовавших в рамках декабристского движения, в особенности для либерально-конституционалистского Северного общества и более радикального Южного общества. Незавершенная «Русская правда» лидера южных декабристов П. И. Пестеля содержала программу превращения Российской империи в гомогенное национальное государство. Однако национализм Пестеля, якобинский или бонапартистский по своему характеру, носил элитарный характер и также не отводил активной роли «народу», несмотря на то что сам этот термин употреблялся весьма часто113. Столь же элитарный подход характеризовал и последующие попытки официальных и полуофициальных идеологов инструментализировать тему «народа» после событий декабря 1825 года и польского Ноябрьского восстания 1830–1831 годов.
История создания в 1832–1833 годах доктрины «официальной народности» министром просвещения С. С. Уваровым была исследована многими историками114. Представители старшего поколения историков обратили внимание на то, что третий элемент уваровской триады – православие, самодержавие, народность – остался неопределенным и зачастую понимался как преданность русского народа православной вере и царю115. Позднее исследователи акцентировали, с одной стороны, укорененность уваровской народности в западноевропейском идейном контексте116, а с другой – стремление Уварова сигнализировать завершение периода русского «ученичества» у Европы и достижение идейной зрелости117. Как бы то ни было, элитарный характер уваровской триады очевиден. «Народ» обретет сколько-нибудь активную роль только у славянофилов в ходе их критического переосмысления «официальной народности» накануне и во время Крымской войны118, а вскоре после ее окончания и в зарождающемся народничестве119.
Вот почему в первой половине XIX века ни царская армия в целом, ни русская военная интеллигенция в частности не были готовы принять концепцию «народной войны» или рассматривать «народ» в качестве главной военной силы. В то же время различные тенденции и события периода, последовавшего за разгромом Наполеона, заставляли их уделять все больше внимания населению и признать, что его поддержка или враждебность были важным фактором, влияющим на исход военного конфликта. Одним из таких событий стала Греческая война за независимость, начавшаяся 22 февраля 1821 года, когда отряд греческих волонтеров под предводительством Александра Ипсиланти пересек российскую границу на Пруте и вступил в зависимое от османов княжество Молдавия.
Сын и внук господарей-фанариотов Молдавии и Валахии, Александр Ипсиланти сделал блестящую карьеру в русской армии в период Наполеоновских войн, к двадцати пяти годам достигнув чина генерал-майора. В апреле 1820 года Ипсиланти возглавил тайное греческое общество «Филики Этерия», основанное в 1814 году в Одессе тремя греческими выходцами из Османской империи с целью освобождения Греции от османского господства120. Вступив в столицу Молдавии Яссы, Ипсиланти опубликовал несколько пламенных прокламаций, в которых призывал османских греков восстать против власти султана, убеждал местное население поддержать эту борьбу и намекал на скорую помощь со стороны России. Незамедлительное осуждение Александром I восстания Ипсиланти, а также трения между ним и Тудором Владимиреску, предводителем антиэлитного движения пандуров, начавшегося незадолго до этого в Валахии, предопределили скорое поражение греческих повстанцев в Дунайских княжествах. Тем не менее предприятие «Этерии» спровоцировало вспышки межэтнического насилия в других частях Европейской Турции. Подстегнутое репрессивными мерами османского правительства, Греческое восстание в Морее продолжалось целых девять лет на глазах у все более прогречески настроенной Европы и завершилось созданием независимого греческого королевства в 1830–1832 годах121.
Предприятие Александра Ипсиланти вызвало противоречивые отклики со стороны русских военных. Как и образованные представители русского общества в целом, офицеры с симпатией относились к борьбе греков за независимость и были сильно разочарованы отказом Александра I объявить войну Османской империи и прийти на помощь повстанцам122. Как и революции 1820–1821 годов в Испании и Италии, Греческое восстание оказало радикализирующее воздействие на некоторых представителей русского офицерства и способствовало формированию движения декабристов. Хотя русские военные порой очень критически отзывались о личных качествах Ипсиланти и его действиях во время событий 1821 года, Греческое восстание продемонстрировало им потенциал партизанского действия123.
Первый опыт теории партизанского действия
В апреле 1821 года, через полтора месяца после того, как Александр Ипсиланти и его сторонники пересекли русско-османскую границу, знаменитый партизанский командир Д. В. Давыдов опубликовал свой «Опыт теории партизанского действия», который стал важной вехой в развитии русской военной мысли124. Давыдов считал (см. ил. 1), что партизанская война «объемлет и пересекает все пространство от тыла противной армии до естественного основания оной; разя в слабейшие места неприятеля, вырывает корень его существования, подвергает онаго ударам своей армии без пищи, без зарядов и заграждает ему путь к отступлению»125. По мнению Давыдова, первый пример такого действия продемонстрировали предводители немецких протестантов во время Тридцатилетней войны 1618–1648 годов. Историю партизанщины продолжили венгерские гусары во время Войны за австрийское наследство 1740–1747 годов, а также испанские герильясы в 1809–1813 годах. Однако только в России в 1812 году партизанская война «поступила в состав предначертаний общего действия армий»126.
Давыдов утверждал, что Россия более, чем любая другая страна, могла воспользоваться преимуществами партизанского действия. Отправной точкой рассуждений Давыдова был тезис о том, что качество армии определялось ее большим или меньшим сближением «с коренными способностями, склонностями и обычаями того народа, из которого набрано войско». Давыдов отмечал, что «в Европе просвещение, а за ним население, смягчение нравов, познание прав собственности, торговля, роскошь и другие обстоятельства суть главные препятствия к введению легких войск» в состав армий. Напротив, в Азии «народ, так сказать, наездничий, передает в роды родов способность свою к набегам не через земледелие, художества и торговлю, а через беспрестанное рыскание за добычею среди обширных пустынь, среди ущелий и гор, или в соседстве и вечной вражде с горными и пустынными жителями». Их способ ведения войны заключался во «внезапных ударах, в неутомимой подвижности, и в дерзких предприятиях шумных полчищ наездников»127. Соответственно, «верх совершенства военной силы государства» достигался посредством совокупного обладания «европейской армиею и войсками азиатских народов, дабы первою сражаться в полном смысле слова, а последними отнимать у неприятеля способы к пропитанию и к бою». По мнению Давыдова, только России в силу ее географического положения одновременно в Европе и Азии предоставлено обладать «устроеннейшею армиею в свете» и вместе с тем повелевать казаками, которые были «одинаких свойств с Азиатцами, и подобно европейским войскам покорн[ы] начальникам»128.