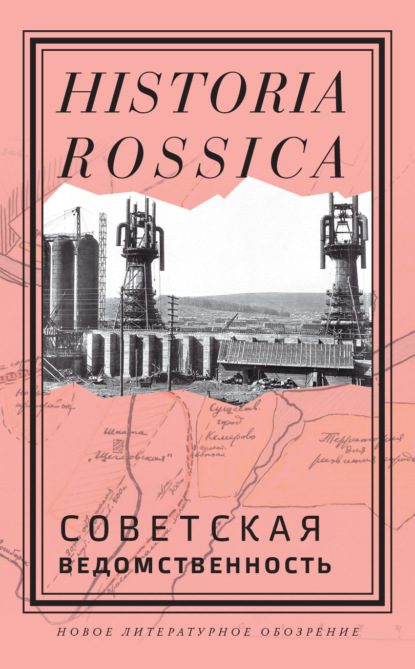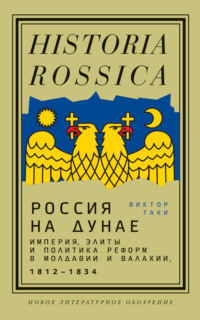Полная версия
Турецкие войны России. Царская армия и балканские народы в XIX столетии
Для правильного определения роли России в этом процессе необходимо принять во внимание как изначальное отторжение царскими военными идеи «народной войны», так и последующее изменение их отношения к этому явлению. В послепетровскую эпоху русские офицеры ассимилировали понятия и принципы «регулярной» войны эпохи Старого режима, которая не предполагала вовлеченности массы населения в боевые действия40. Хотя революционные и Наполеоновские войны поставили под вопрос разделение на военных и гражданское население, не стоит недооценивать консервативное сопротивление аристократического офицерского корпуса идее массовой армии, состоящей из солдат-граждан, или идеи партизанской войны41. Ввиду того, что царская Россия была более успешна в своем противоборстве с наполеоновской Францией, чем другие континентальные европейские державы, у нее не было стимула приступать к военным реформам прусского типа, которые привели к созданию системы национальных резервов и введению всеобщей воинской службы42. Вместо этого конечная победа над Наполеоном наглядно продемонстрировала дееспособность петровской военной организации старорежимного образца, основанной на резком отделении армии от остального населения43.
Война 1812 года включала в себя партизанские действия, в ходе которых граница между комбатантами и некомбатантами оказалась предсказуемо размытой. Однако эта сторона противостояния с Наполеоном произвела на современников весьма негативное впечатление. Важно помнить о том, что, в отличие от Льва Толстого, большинство офицеров – участников войны 1812 года были далеко не в восторге от «дубины народной войны», поскольку она была несовместима с усвоенными ими представлениями о «регулярной» войне44. В десятилетия, последовавшие за разгромом Наполеона, приверженность офицеров дворянского и аристократического происхождения этим принципам только возросла. Среди поколения 1812 года энтузиастов партизанского действия в духе Дениса Давыдова было немного, а приверженцы «народной войны» и вовсе практически не встречаются вплоть до второй половины XIX столетия. Офицерский корпус царской России в целом особенно долго отказывался признать «народ» в качестве нового фактора современной войны и инициировать переход к современной массовой армии солдат-граждан или принять методы партизанской войны. Однако после того, как поражение в Крымской войне вызвало наконец эту ментальную и институциональную трансформацию, ее последствия оказались более радикальными, чем где-либо в Европе45.
Русско-турецкие войны 1828–1829, 1853–1856 и 1877–1878 годов свидетельствуют об изменении отношения царских военных к понятию «народная война». В первом из этих конфликтов российские командующие стремились предотвратить какие-либо формы «народной войны», будь то со стороны единоверного населения Балкан или со стороны османских мусульман. Несмотря на то что на завершающем этапе войны российскую армию поддерживали ограниченные партизанские отряды, их целью был контроль над местным мусульманским населением, а не провоцирование православных болгар на всеобщее восстание против власти султана. В целом российская политика заключалась в том, чтобы убедить мусульманское население не покидать своих жилищ. Вместо изгнания мусульман российское командование организовало масштабное переселение христианского болгарского населения в причерноморские территории Российской империи с целью обезопасить его от возможного возмездия со стороны османов после заключения мира и вывода российских войск с восточных Балкан.
Спустя четверть века Крымская война выявила уже несколько бо́льшую открытость российского командования идее «народной войны» на Балканах, о чем свидетельствует переписка Николая I со своими генералами. Стремясь компенсировать малочисленность российских войск на нижнем Дунае, царь и его советники рассматривали возможность массовой мобилизации единоверцев, несмотря на то что по-прежнему испытывали неудобство ввиду революционного характера такой меры и в любом случае не смогли ее реализовать. Растущая популярность панславистских идей среди русского офицерства в 1860‑е и 1870‑е годы также способствовала новому определению целей партизанского действия, которое стало рассматриваться как способ провоцирования антиосманского восстания среди балканских единоверцев. Актуальность понятия «народная война» проявилась в планах мобилизации болгар, которые были предложены несколькими русскими генералами в ходе Восточного кризиса 1875–1876 годов, а также в формировании болгарского ополчения накануне Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Парадигма «народной войны» оказала определенное влияние и на планы русского командования, а также на политику военных властей в Болгарии в отношении различных групп местного населения.
***Русско-турецкие войны 1828–1829 и 1877–1878 годов, сопровождавшиеся занятием восточных Балкан русскими войсками, определяют хронологические рамки данного исследования. Идейный багаж, с которым русская армия подошла к первому из этих конфликтов, рассматривается в первой главе. Используемые в ней опубликованные источники по истории русско-турецких войн конца XVIII – начала XIX века позволяют описать в общих чертах привлечение российскими командующими христианских добровольцев и меры по переселению жителей-христиан с южного берега Дуная на северный. Затем рассматривается первый на русском языке опыт теории партизанского действия, опубликованный вскоре после окончания Наполеоновских войн, и отмечается весьма сдержанное отношение русского офицерства к идее «народной войны» на Балканах. Главу завершает рассмотрение места христианского и мусульманского населения в записках и докладах, составленных военными советниками и агентами Александра I и Николая I в период между началом Греческого восстания весной 1821 года и объявлением войны Османской империи в апреле 1828 года.
Материалы Российского государственного военно-исторического архива служат основой для реконструкции российской политики в отношении различных групп балканского населения в ходе войны 1828–1829 годов. Вторую главу открывает обзор мер царского командования в отношении населения Дунайской Болгарии во время первой кампании этой войны, в ходе которой отдельные отряды и транспорты российских войск испытали на себе действие мусульманских партизан. Затем рассматривается отношение И. И. Дибича, назначенного главнокомандующим в начале 1829 года, к мусульманскому населению, особенно после того, как в июле того же года его войска пересекли Балканы. Главу завершает обзор последствий войны для мусульман и христиан восточных Балкан, основывающийся на некоторых военно-статистических описаниях данного региона, составленных русскими офицерами после заключения Адрианопольского мира в сентябре 1829 года.
В третьей главе интерес русского офицерства к военной статистике Османской империи соотносится с опытом партизанских действий на Балканах. Глава посвящена деятельности полковника Генерального штаба И. П. Липранди, связанной с данным регионом. На протяжении 1820‑х годов Липранди занимался сбором разведданных, а летом и осенью 1829 года возглавил партизанский отряд из балканских волонтеров с целью замирения мусульманских жителей Делиорманского леса. Этот опыт отразился в многочисленных записках Липранди, сохранившихся в Российском государственном историческом архиве. Эти записки и военно-статистические обозрения европейской части Османской империи были впоследствии представлены им российскому командованию в начале Крымской войны.
Различные планы мобилизации балканских христиан, рассматривавшиеся Николаем I и его военными советниками в 1853–1854 годах, составляют главный предмет четвертой главы. Эту главу открывает обзор сохранившихся в Российском государственном военно-историческом архиве донесений русских военных агентов в Константинополе, отправленных накануне Крымской войны. Последние уделяли особое внимание отношению различных групп османского населения к османскому правительству и вестернизирующим реформам, которые оно проводило. Затем на основании опубликованной переписки Николая I со своими советниками анализируется эволюция планов мобилизации балканских христиан. Главу завершает обзор военных действий на Дунае весной и в начале лета 1854 года, которые выявили необоснованность надежд, возлагавшихся царем и некоторыми его генералами на православных единоверцев.
В пятой главе демонстрируется, что, несмотря на фальстарт в начале Крымской войны, идея мобилизации балканских христиан начинала интересовать все большее число русских военных. Основанная по большей части на опубликованных источниках, эта глава начинается с обзора военных аспектов Великих реформ 1860‑х – начала 1870‑х годов. Затем рассматривается место населения в рамках военной статистики, которая в данный период становится важным инструментом военной реформы и империостроительства в целом. В главе демонстрируется, как опыт покорения Северного Кавказа в конце 1850‑х – начале 1860‑х годов способствовал превращению конфессионального и этнического состава населения восточных Балкан в неизменный элемент рассуждений русских военных о будущих войнах с Османской империей. Этот тезис подтверждается анализом планов мобилизации балканских христиан, составленных некоторыми русскими генералами в начале Восточного кризиса второй половины 1870‑х годов. Хотя Военное министерство и Генеральный штаб не вполне разделяли такие планы, их собственная подготовка к войне 1877–1878 годов свидетельствует о большей готовности принимать во внимание конфессиональный и этнический состав населения на территориях, составлявших вероятный театр военных действий.
Русско-турецкая война 1877–1878 годов и политика российского командования и временной администрации в отношении различных групп восточнобалканского населения рассматриваются в шестой главе. На основании широкого круга опубликованных источников в ней описывается формирование и деятельность временной российской администрации в Болгарии на протяжении десяти месяцев боевых действий, в особенности ее меры в отношении восточнобалканских мусульман и христиан. Затем рассматриваются вынужденные перемещения мусульманского и христианского населения, вызванные перипетиями боевых действий, а также вспышки межконфессионального насилия с участием русских войск и болгарского ополчения. Главу завершает описание жестокостей в отношении мусульманского населения, которые имели место в ходе финального наступления русской армии на Адрианополь зимой 1877–1878 годов.
Седьмая глава посвящена политике в отношении различных групп населения восточнобалканского региона, проводившейся после окончания войны временной российской администрацией, способствовавшей основанию Болгарского княжества и автономной области Восточная Румелия. Приоритетом российских властей был контроль над мусульманским населением и межконфессиональными отношениями, о чем свидетельствуют меры по подавлению Родопского восстания весной 1878 года и попытки императорского комиссара А. М. Дондукова-Корсакова воспрепятствовать возвращению в пределы будущей Болгарии мусульманских беженцев. Главу завершает рассмотрение решения российских властей вооружить болгарское население Восточной Румелии, дабы защитить его от возможных репрессий после вывода русских войск.
В заключении выделяются основные сходства и различия в политике российского командования и временной администрации на восточных Балканах в 1828–1830 и в 1877–1879 годах, а также предлагается объяснение этих различий и рассматриваются их последствия для мусульманского и христианского населения региона в контексте Восточного кризиса второй половины 1870‑х годов.
Глава I
Мусульмане и христиане восточных Балкан в ходе русско‑турецких войн XVIII – начала XIX века
Изменяющиеся отношения между армиями и населением составляли один из важнейших аспектов «военной революции» Раннего Нового времени46. После особенно разрушительной Тридцатилетней войны 1618–1648 годов европейские правители постарались поставить свои вооруженные силы под более плотный контроль, дабы обезопасить от них остальных своих подданных, чье благополучие было необходимым условием увеличения налогооблагаемого богатства, по мнению королевских советников меркантилистского и камералистского толка47. В результате разношерстные наемнические формирования предыдущего периода начали постепенно уступать место более униформированным (и одетым в униформу) воинским частям, все более подвергаемым муштре и дисциплине. Растущие расходы на такие армии заставили государственных деятелей и полководцев осознать зависимость военной мощи от налоговых поступлений в казну, которые могли увеличиваться только при условии замены кормления войск напрямую за счет населения упорядоченными системами снабжения48.
Можно спорить о том, в какой степени и эти усилия сделали войны XVIII столетия менее разрушительными по сравнению с предыдущим периодом49. Несомненно, однако, изменение нормативных представлений о войне50. Предводимые полководцами аристократического происхождения регулярные войска эпохи Морица Саксонского и Фридриха Великого все чаще участвовали в маневренной войне, прерываемой кровопролитными, но все более редкими генеральными сражениями, в ходе которых полки хорошо вымуштрованных солдат-простолюдинов выполняли приказы своих офицеров-дворян с безотказной послушностью человеческих автоматов51. Одновременно четкое разделение на военных и гражданское население становилось одним из основополагающих элементов европейской военной культуры, в том числе и потому, что солдаты XVIII столетия все более явно выделялись на фоне остального населения своим внешним видом и поведением. Они носили военную форму, все чаще располагались в бараках и подвергались коллективной муштре52. Напротив, остальное население все реже носило оружие и подвергалось все более плотному полицейскому контролю, посредством которого формирующиеся территориальные государства утверждали свою монополию на легитимное применение насилия53. Даже если допустить, что более четкая граница между военными и гражданским населением на практике не облегчала страдания последнего во время войны, среди европейских полководцев и офицеров утверждалось представление о том, что мирное население, не оказывающее сопротивления, не должно подвергаться насилию со стороны войск54.
Несмотря на очевидное отличие структуры российского общества, основанного на крепостном праве, военная организация послепетровской России в целом следовала европейскому старорежимному образцу. Потребовалось более двух столетий спорадических и не очень успешных заимствований западноевропейского воинского искусства при московских царях и два десятилетия более интенсивных (хотя и по-прежнему хаотических) усилий Петра Великого для появления в России армии европейского образца к концу правления царя-реформатора и при его непосредственных преемниках55. Эта армия состояла из бывших частновладельческих крепостных или государственных крестьян, призванных на пожизненный (впоследствии двадцатипятилетний) срок и находившихся под командованием офицеров-дворян, для которых государственная служба (по преимуществу военная) была формальной обязанностью до 1762 года и негласным, но вполне действенным социальным предписанием вплоть до второй половины XIX века56. Хотя в плане образования и общего культурного уровня русские офицеры долгое время уступали своим европейским коллегам, к концу XVIII столетия они уже в значительной степени усвоили навыки и принципы «регулярной» войны европейского типа57.
Ввиду того, что жалованье и довольствие русских солдат были самыми скудными в Европе, им неизбежно приходилось компенсировать это прямыми поборами у местных жителей, в жилищах которых они, как правило, были расквартированы ввиду отсутствия бараков. В результате отношения между войсками и населением оставались напряженными, чему способствовало также и задействование солдат в сборе налогов как в центральных регионах России, так и на имперских окраинах, где преобладало нерусское население58. В то же время эти особенности отношений между военными и гражданским населением в России не надо преувеличивать, поскольку европейские армии также зачастую не проявляли ожидавшейся от них «сдержанности» в отношении мирных жителей. «Сдержанность» была прежде всего нормативным аспектом старорежимной военной культуры. По мере того как российские элиты послепетровского периода все больше усваивали элементы этой культуры, различие между русской армией и армиями других европейских государств было скорее количественным, чем качественным.
Евразийская география России составляла гораздо более серьезное препятствие для распространения европейской старорежимной культуры войны. В условиях непрекращающегося конфликта между (полу)кочевым и оседлым населением вдоль южных границ России принципы «регулярной» войны старорежимного типа были малоприменимы. В своих набегах на Польско-Литовское и Московское государства крымские татары стремились не столько разбить их вооруженные силы, сколько захватить местное население. В ответ на этот вызов возникали казацкие сообщества, в рамках которых четкое разделение на военное и невоенное население было также проблематичным59. В конечном счете проблема открытых границ была разрешена посредством политики колонизации, целенаправленно осуществлявшейся российскими властями с середины XVIII века60. В рамках этого подхода сами колонисты становились главным средством победы над Крымским ханством и его северопричерноморскими и северокавказскими союзниками и вассалами. Итоговое изменение демографии и экологии степного региона ставило под вопрос само существование кочевых и полукочевых групп населения, как о том свидетельствует катастрофа, постигшая поволжских калмыков в 1770‑е годы61.
Таким образом, действительный характер вооруженных конфликтов на южных окраинах Российской империи существенно отличался от парадигмы «регулярной» войны, которую усваивали царские полководцы и офицеры на протяжении XVIII столетия. Это расхождение между практическим и нормативным характером войны рассматривается в данной главе на примере использования христианских волонтеров русскими полководцами в ходе русско-турецких войн 1768–1774 и 1806–1812 годов, а также на примере их политики по переселению балканских христиан. Затем будет рассмотрен интеллектуальный контекст посленаполеоновской эпохи, в рамках которого были предприняты первые попытки суммировать опыт предыдущих русско-турецких войн и извлечь уроки на будущее. Осознавая большой потенциал партизанской борьбы в Европейской Турции, царские генералы и офицеры в то же время опасались эксцессов «народной войны» в данном регионе. Эти соображения определили их усилия по выработке стратегии против османов после того, как начало Греческого восстания в 1821 году сделало вероятной новую русско-турецкую войну.
Использование волонтеров и политика переселения балканских христиан в русско‑турецких войнах конца XVIII – начала XIX века
В мае 1773 года, когда основные силы русской армии впервые переправились через Дунай, командовавший ими П. А. Румянцев обратился с манифестом к местному населению62. В нем российский полководец объявил, что воины, сложившие оружие, торговцы и земледельцы, как христиане, так и мусульмане, могут рассчитывать на защиту русского оружия, «если не возьмут участия обще с неприятелем в воспротивлении»63. Чтобы доказать, что «лютость и грабление никогда не были и не будут свойством российских войск», Румянцев указал на «многие семьи самих турков, которые теперь при разбитии неприятеля при Бабадах и при Карасуй добровольно просили себе приселения на левой берег Дуная и приняты здесь нами с обязательством всякого им благодеяния»64.
Несмотря на эти заявления, манифест не возымел желаемого действия на население Дунайской Болгарии. Уже к концу кампании 1773 года главнокомандующий жаловался на то, что даже среди христианских жителей правого берега Дуная он «не приметил никакой приверженности к войскам нашим». Румянцев объяснял это тем, что в местных христианах «по общежительству с турками более действует привычка нежели побуждение веры»65. Мусульмане же, проживавшие в окрестностях Рущука, Никополя, Видина и Белграда, «как только надобно вооружаются и к военному действу все свойства имеют»66.
Манифест Румянцева и последующие донесения свидетельствуют о новой проблеме, с которой будут сталкиваться русские полководцы всякий раз по пересечении Дуная. Демографический ландшафт восточных Балкан значительно отличался от северопричерноморской степи и княжеств Молдавия и Валахия, которые составляли главный театр военных действий до начала 1770‑х годов. Какую бы политику ни проводили царские главнокомандующие в отношении, например, ногайских вассалов крымского хана, им не приходилось думать о последствиях этой политики в отношении христиан, поскольку последних было немного на территориях, которые занимали ногайские орды. С другой стороны, усилия русских полководцев по мобилизации христианских волонтеров в Молдавии в 1711 и 1739 годах не имели сколько-нибудь существенного воздействия на османских мусульман, которым формально запрещалось проживать в этом автономном христианском княжестве. Ситуация менялась с перенесением боевых действий на южный берег Дуная, где городское и сельское мусульманское население соседствовало с христианами. В то время как местные мусульмане были вооружены и, как правило, враждебны России, местные христиане не обязательно сочувствовали и содействовали русским войскам. Более того, любая политика в отношении одной из этих групп многоконфессионального и полиэтничного населения восточных Балкан должна была принимать во внимание последствия этой политики в отношении других категорий местных жителей.
Нерегулярные формирования христианских волонтеров играли значительную роль как на начальном этапе Русско-турецкой войны 1768–1774 годов, в военных действиях на территории Молдавии и Валахии, так и на завершающем ее этапе, после того как русская армия пересекла Дунай. Эти вспомогательные отряды состояли из арнаутов албанского, сербского, болгарского, валашского и молдавского происхождения, которые в период Раннего Нового времени представляли собой класс военных наемников в Дунайских княжествах67. Хотя арнаутские отряды включали значительное количество молдаван и валахов, их предводители были, как правило, пришлыми и принадлежали к конфессионально и этнически пестрой категории «специалистов по насильственным методам», известных на Балканах как гайдуки, кирджалии или клефты. Встречаемые практически во всех частях Османской империи, эти более или менее благородные бандиты отличались как от массы населения (будь то христианского или мусульманского), так и от османских элит (как центральных, так и местных), с которыми они зачастую находились в сложных отношениях борьбы и взаимодействия68.
По этой причине использование арнаутов Румянцевым и последующими российскими командующими не может считаться формой сколько-нибудь массовой мобилизации христианского населения Европейской Турции. Сходная османская практика использования кирджалиев для репрессий в отношении нелояльных христианских подданных в ходе войны 1787–1792 годов также не может рассматриваться в качестве массовой мобилизации мусульманского населения, а, напротив, представляет собой альтернативную форму контроля над населением в условиях имперского кризиса69. Конфессиональное многообразие «специалистов по насильственным методам» также не позволяет говорить об использовании вспомогательных отрядов российскими и османскими полководцами как разновидности религиозной мобилизации. В то время как румянцевские волонтеры были, по-видимому, все без исключения христианами, использовавшиеся османами отряды кирджалиев состояли не только из мусульман и включали в себя некоторых видных болгарских и сербских гайдуков70.
Русские полководцы в конце XVIII – начале XIX века понимали, что не могут рассчитывать на автоматическую поддержку и симпатии ни арнаутов, ни балканских христиан в целом. С точки зрения царских генералов, и те и другие были колеблющимися элементами, которые могли примкнуть и к османам, если не привлечь их на сторону России. За несколько месяцев до начала Русско-турецкой войны 1806–1812 годов командующий русской армией в Подолии И. Л. Михельсон писал Александру I, что «все колеблющиеся теперь народы задунайские… в таком положении находятся, что кто ближе и скорее может им руку подать, на того стороне и будут, и могут весьма зделаться вредными стороне противной»71. Располагая в ноябре 1806 года всего 30 000 штыков для занятия Молдавии и Валахии, царь санкционировал привлечение болгар, арнаутов и прочих к русским войскам72.
В то же время отношение российских командующих к христианским волонтерам оставалось противоречивым. Энтузиазм Михельсона, несомненно, объяснялся немногочисленностью регулярных войск, которыми он располагал. В результате в 1806 году, так же как и в 1769 году, валашские, сербские и болгарские арнауты сыграли значительную роль в захвате Бухареста российскими войсками73. Позднее некоторые их формирования вошли в отряд генерал-майора И. И. Исаева, который пересек Дунай, чтобы помочь сербским повстанцам под предводительством Карагеоргия74. Заключение Слобдоздейского перемирия в августе 1807 года и растущие крестьянские выступления в южных губерниях Российской империи объясняют, почему преемник Михельсона фельдмаршал А. А. Прозоровский с радостью избавился от услуг беспокойных арнаутов75. Однако по возобновлении военных действий к югу от Дуная в 1809 году преемники Прозоровского П. И. Багратион и Н. Ф. Каменский вновь оценили пользу от волонтерских отрядов.