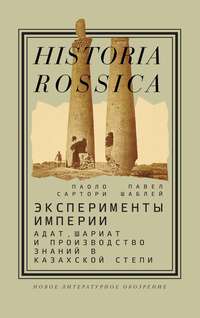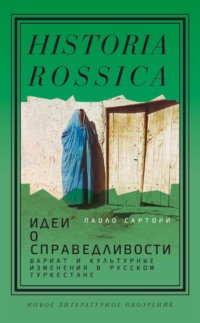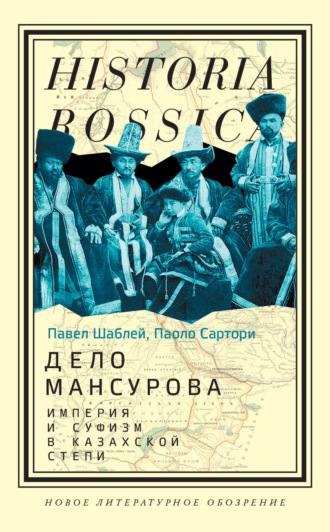
Полная версия
Дело Мансурова. Империя и суфизм в Казахской степи
Убежденность, что такого рода объяснения имеют право на существование, обуславливалась непредсказуемым характером развития дальнейших событий. Мансуров не был откровенен и явно избрал выжидательную тактику. Расследование не могло существенно продвинуться. Путаницу вносили не только сбивчивые показания обвиняемого, но и сам порядок следственных мероприятий, с самого начала не отличавшийся системностью – в основном из‑за того, что задействованы были только чиновники внешних казахских окружных приказов. Обладая целым рядом других служебных обязанностей и к тому же представляя интересы своего окружения – местных чиновников, казахов разных родов и родовых подразделений, эти люди часто ограничивались обычной перепиской между разными инстанциями, опорой на слухи и непроверенную информацию, поступавшую от тех или иных осведомителей в степи (кочевых казахов, толмачей, мулл и др.)183. В итоге колониальная администрация Западной Сибири (Областное правление Сибирскими казахами, канцелярия генерал-губернатора Западной Сибири) не могла найти ответы на главные вопросы: в чем заключалась суть «нового учения» Мансурова? Какую угрозу оно представляло для империи? Кто еще, кроме влиятельных казахов и местных религиозных кругов, был замешан в этом деле? Кем в действительности был Мансуров? Для того чтобы распутать это дело, по словам военного губернатора Области Сибирских казахов генерал-майора Г. К. фон Фридрихса, требовался «чиновник опытный, знакомый с этим краем, языком и обычаями жителей»184. И такая кандидатура вскоре нашлась. Г. Х. фон Фридрихс сам предложил поручить следствие асессору Областного правления Сибирскими казахами Виктору Карловичу Ивашкевичу185. Почему выбор пал именно на этого чиновника? Можно ли говорить о том, что Ивашкевич представлял собой колониального эксперта, который обладал инициативой и полномочиями, позволявшими выходить за рамки формальных требований циркуляра и развивать собственные независимые аналитические суждения?186
В. К. Ивашкевич происходил из семьи польских дворян. Обучался в крожской гимназии (Виленская губерния). За учреждение тайного общества, названного «Черные братья»187, Ивашкевич вместе с Я. В. Виткевичем, Т. Заном, А. Песляком и другими поляками был лишен дворянства и в 1824 году определен рядовым без права выслуги в один из батальонов Отдельного Оренбургского корпуса188. Последующие события демонстрируют неожиданный поворот в судьбе юных борцов с самодержавием. Если многие из участников крожского заговора не выдержали испытание солдатчиной (покончили жизнь самоубийством, сошли с ума или спились), то Ивашкевич вместе со своим другом Виткевичем получают второй шанс. Виткевич осваивает ряд восточных языков (казахский, татарский, персидский, арабский). На его способности быстро обращает внимание колониальная администрация, и он становится любимцем самого В. А. Перовского, назначенного оренбургским военным губернатором в 1833 году. В итоге Виткевичу, государственному преступнику, чудом избежавшему смертной казни, поручаются задания чрезвычайной важности. Одно из них – дипломатическая миссия в Афганистан в 1837–1838 годах. Цель этого деликатного поручения заключалась в необходимости добиться усиления влияния Российской империи в этом регионе и ослабить тем самым позиции Британской империи189.
Взлет Ивашкевича не был таким стремительным. Он так же, как и его друг, осваивает местные языки, в особенности казахский; его часто командируют в степь для урегулирования различных межродовых противоречий190. В 1830 году Ивашкевич производится в унтер-офицеры, а в 1835 году становится прапорщиком. В 1842 году он назначен адъютантом к начальнику штаба Отдельного Сибирского корпуса генерал-майору А. А. Жемчужникову. 15 января 1844 года за отличную службу Ивашкевич награжден орденом Святого Станислава III степени. 1 мая 1845 года он определен чиновником особых поручений при пограничном начальнике сибирских казахов, а с 25 сентября 1854 года получает должность асессора Областного правления Сибирскими казахами191.
Занимая различные позиции (чиновник особых поручений, асессор) в администрации по управлению казахами сибирского ведомства, Ивашкевич выполняет важные поручения: производит перепись населения и имущества казахских родов, участвует в церемонии принятия российского подданства отдельными казахскими родами Старшего жуза, расследует исковые дела между ташкентцами, бухарцами и казахами и т. д.192 Щепетильность и внимательность, которые Ивашкевич демонстрирует в ходе исполнения своих обязанностей, формируют среди казахов представление о нем как о добром и справедливом чиновнике. Вот характерный пассаж:
После переписи населения к Ивашкевичу подошел восьмидесятилетний старик. Он сказал: «Я долго живу на свете, а первый раз вижу россиянина, как ты». Потом добавил, указывая на толмачей: «Толмачи и казаки – это одержимые дьяволом; чиновники сами дьяволы»193.
Значение этих слов можно объяснить с разных точек зрения. С одной стороны, чиновники, производившие перепись населения и имущества, часто искажали данные, что в итоге приводило к непомерно высокому налогу194. С другой стороны, следует понимать, что этот текст был создан близким другом Ивашкевича другим ссыльным поляком Адольфом Янушкевичем, которого тяготила служба в имперской администрации: всю свою жизнь он мечтал вернуться в свои родные края195. Идеализация образа Ивашкевича служила ему средством обличения колониальных порядков и критики имперской бюрократической системы в целом.
Рассматривая Ивашкевича через призму разных источников, мы понимаем, что его жизнь не протекала по какому-то одному сценарию. Имея определенные принципы, он в то же время был органичной частью колониальной системы, использовал ее слабости и перегибы в качестве ресурса для достижения собственных материальных и карьерных выгод. Так, в 1839–1847 годах получило резонанс дело о самовольном выпасе скота поручиком Ивашкевичем на землях, принадлежавших оренбургскому казачьему войску. В ходе следствия выяснилось, что этот чиновник владел большим табуном скота, значительная часть которого была оформлена по бумагам как казенная (66 голов лошадей своих и 81 казенная). Для выпаса этого поголовья Ивашкевич нанял казахских пастухов, которые, используя поддельные документы, свободно перегоняли животных через Орскую крепость196. Это дело, наложившее несколько негативный отпечаток на репутацию Ивашкевича, тем не менее не сыграло какой-то драматической роли в его последующей судьбе, хотя, возможно, и заставило покинуть Оренбург и перебраться в Омск.
Получив предписание заняться делом Мансурова, Ивашкевич тут же отправился в Казахскую степь и начал следствие с опроса казахов, которые, по данным имперских чиновников, контактировали с человеком, выдававшим себя за ташкентского купца и ишана197. Изучив свидетельские показания, а также дела лиц, содержавшихся под арестом по подозрению в том, что они замешаны в «каких-то тайных и вредных сношениях» с Мансуровым198, асессор пришел к неожиданным для колониальной администрации Западной Сибири выводам. Многих фигурантов этого дела – таких, как бухарец Абдул-Мумин, казахи Кокчетавского округа Бекходжа и Давлет и в особенности ахун города Петропавловска Сираджэтдин Сейфуллин, которого власти признавали «неблагонадежным, изобличенным в разных противозаконных поступках», – Ивашкевич предложил освободить, так как вина их не доказана199
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Речь идет об Оренбургском магометанском духовном собрании (ОМДС), созданном в 1788 году по указу Екатерины II. Это учреждение, наряду с другими своими обязанностями, должно было принимать экзамен у мусульман, которые хотели получить должность имама или ахуна (ахунд). Таким образом, власти стремились ограничить влияние так называемых частных мулл. См.: Азаматов Д. Д. Оренбургское магометанское духовное собрание в конце XVIII–XIX вв. Уфа: Гилем, 1999. С. 17–21; Записки Д. Б. Мертваго // Русский архив. 1867. № 8–9. С. 43–44.
2
ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3658. Л. 2 об., 7–8.
3
Не установленная нами личность.
4
В суфизме иджаза – это свидетельство правомочности нового учителя (шайха). Оно дает ученику гарантию, что человек, которому он вверяет себя, имеет право на проведение обряда посвящения и духовное руководство. См.: Bonebakker S. A. Idjāza // The Encyclopedia of Islam / Ed. by B. Lewis, V. L. Mènage, Ch. Pellat and J. Schacht. New Edition. Leiden; London: Brill, 1986. Vol. 3. Р. 1020–1022.
5
Влиятельный суфийский шейх, который основал собственное направление Накшбандийя-Муджаддидийя-Хусайнийя. Это течение имело некоторые доктринальные отличия от других ветвей накшбандийского тариката. Приверженцы Хусайнийя придерживались не только тихого, но и громкого зикра (обряд, заключающийся в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Аллаха). Ритуал посвящения (инициации) благодаря своей простоте способствовал необыкновенной популярности этой ветви Накшбандийя-Муджаддидийя среди кочевых и оседлых этнических групп Средней Азии. См.: Babadžanov B. On the History of the Naqshbandiya Mujaddidiya in Central Māwarā’annahr in the Late 18th and Early 19th Centuries // Muslim Culture in Russia and Central Asia from 18th to the Early 20th Centuries / Ed. by M. Kemper, A. von Kügelgen, D. Yermakov. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1996. Р. 400–402.
6
ГИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 3644: «По отношению штаба Отдельного Сибирского корпуса с делом об азиатце Мансурове, проповедующем в киргизской степи новое магометанское учение» (1854–1859). Л. 78–79 об., 114–115.
7
Понятие, разработанное Кристофером Бейли на основе изучения британской колониальной политики в Индии. См.: Bayly Ch. A. Empire and Information: Intelligence Gathering and Social Communication in India. 1780–1870. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Р. 3–6, 165–178.
8
ЦГА РК. Ф. 345. Оп. 1. Д. 336: «Дело по обвинению Мухаммад Мансурова в распространении учения ислама среди казахского населения Кокчетавского и Кушмурунских округов» (1853–1861). Л. 27, 51, 80–82.
9
Эти выводы мы сделали на основании ревизии, произведенной Областным правлением Сибирскими казахами в 1858 году. См.: Там же. Л. 625–628.
10
Представление о том, что казахи только поверхностно усвоили основы ислама и их религия представляет собой смесь языческих верований и мусульманства, было очень популярно среди российской колониальной администрации и интеллектуальных кругов – особенно в конце XVIII – первой половине XIX в. См.: Рычков Н. П. Дневные записки путешествия в Киргиз-Кайсацкую степь в 1771 г. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1772. С. 25–26; Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей. Ч. 3. СПб.: Типография К. Крайл, 1832. С. 52–53; Ястребов М. Киргизские шаманы. Отрывок из записной книжки // Москвитянин. 1851. Кн. 2. № 8. С. 301–311; Герман Ф. И. О киргизах // Вестник Европы. 1822. Ч. 122. № 3. С. 218.
11
Русификация в контексте описываемых событий рассматривается только в качестве идеи и намерения властей (широкое распространение русского языка, христианизация, развитие оседло-земледельческой культуры), а не объективного процесса. Об особенностях этого понятия и соответствующей политики см.: Миллер А. И. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 54–77; Staliūnas D. Making Russians: Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. Amsterdam; New York: Rodopi, 2007. P. 15. Проекты по христианизации казахов и распространению русского языка в степи были актуальны уже в первой половине XIX века. См.: РГИА. Ф. 1291. Оп. 81. Д. 126: «О мерах к распространению среди киргизов знания русского языка» (1827); ЦГА РК. Ф. 374. Оп. 1. Д. 68: «Об установлении надзора за казахами, принимающими христианство» (1847).
12
См.: Ремнев А. В. Российская империя и ислам в Казахской степи (60–80‑е годы XIX в.) // Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы. Вып. 32. М.: Наука, 2006. С. 241; Постников А. В. Изменения в национальном (этническом) самосознании («идентичности») народов порубежья («фронтира») в процессе создания центральноазиатских владений в XIX в. // Идентичность и география в постсоветской России: Сб. науч. статей / Науч. ред. М. Бассин, К. Э. Аксенов. СПб.: Геликон Плюс, 2003. С. 38–40.
13
Crews R. D. For Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006. Р. 192–240; Нургалиева А. М. Очерки по истории ислама в Казахстане. Алматы: Дайк-Пресс, 2005; Она же. О влиянии правительственной конфессиональной политики на процесс исламизации казахов в XVIII–XIX вв. // История народов России в исследованиях и документах. М.: ИРИ РАН, 2009. Вып. 3. С. 135–161; Сухих О. Е. Образ казаха-кочевника в русской общественно-политической мысли в конце XVIII – первой половине XIX века: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 2007.
14
Ремнев А. В. Татары в Казахской степи: соратники и соперники Российской империи // Вестник Евразии. 2006. № 4. С. 5–31; Айтбаева Р. Т. Государственная политика Российской империи по отношению к исламу в Казахстане в ХIX в.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Алматы, 2006; Каримов Т. А. Политика Российского правительства и татарские муллы в северо-западных казахских землях (вторая половина XVIII – начало XX вв.) // Источники существования мусульманских институтов в Российской империи: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. К. Загидуллин. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. С. 144–162; Мацузато К. Генерал-губернаторства в Российской империи: от этнического к пространственному подходу // Новая имперская история постсоветского пространства: Сб. статей / Науч. ред. А. М. Семенов, И. В. Герасимов, М. Б. Могильнер, А. Каплуновский, С. В. Глебов. Казань: Центр Исследований Национализма и Империи, 2004. С. 450–451.
15
Проскурина В. Мифы империи: Литература и власть в эпоху Екатерины II. М.: Новое литературное обозрение, 2006; Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / Пер. с англ. И. Федюкина. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 344–345.
16
В 1785–1791 годах российские войска жестко подавляют антиколониальное движение шейха Мансура (шайх Ушурма), которое охватило ряд территорий Кавказа (Чечня, Кабарда, Дагестан). При этом руководитель движения объявляется чиновниками «лжепророком» и «турецким шпионом», а его религиозные идеи (основанные на доктрине суфийского ордена Накшбандийя-Муджаддидийя) воспринимались как «ложные» и политически опасные. См.: Бенигсен А. Народное движение на Кавказе в XVIII в. («Священная война» шейха Мансура (1785–1791 гг.). Малоизвестный период и соперничество в русско-турецких отношениях). Махачкала: б. и., 1994. С. 18–42).
17
Мы не исключаем присутствие таких тенденций в имперской политике, однако не абсолютизируем их значимость, хотя бы потому, что поступки некоторых чиновников, связанные с критикой действий своих предшественников или сослуживцев, не обязательно указывают на наличие каких-то осознанных решений и существование альтернативных подходов к управлению. Интриги и борьба за власть, а также невежество, способное доводить некоторые фантазии до абсурда, порой играли не менее важную роль.
18
Каппелер А. Две традиции в отношениях России к мусульманским народам Российской империи // Отечественная история. 2003. № 7. С. 129–135.
19
См.: Миллер А. И. Империя и нация в воображении русского национализма. Взгляд историка. https://polit.ru/article/2005/04/14/miller/ (последнее обращение: 30.12.2024).
20
Здесь мы не следуем буквально за идеей А. Моррисона об «официальном мышлении» («official mind»), предполагающей тщательное планирование и согласование мер по осуществлению колониальной политики. См.: Morrison A. The Russian Conquest of Central Asia: A Study of Imperial Expansion, 1814–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. Р. 23. Такой подход несколько упрощает наше представление о действительности: человеческий фактор и несбалансированность бюрократической системы играли не менее важную роль. Имперские чиновники в Санкт-Петербурге и регионах могли манипулировать той или иной информацией, образовывать альянсы и временные союзы друг с другом, использовать разные коррупционные схемы для того, чтобы продвинуть свои идеи или, наоборот, помешать проектам своих соперников. См.: Сартори П., Шаблей П. Эксперименты империи: адат, шариат и производство знаний в Казахской степи. М.: Новое литературное обозоение, 2019. С. 127–136. См. об этом на примере европейской истории: McLean P. The Art of the Network: Strategic Interaction and Patronage in Renaissance Florence. Durham, NC: Duke University Press, 2007.
21
Если востоковед, председатель ОПК В. В. Григорьев воспринимал адат в качестве архаического наследия «исконно киргизских обычаев», то его подчиненный, другой востоковед, И. Я. Осмоловский рассматривал казахскую правовую культуру с помощью иного подхода: обычное право кочевников под воздействием внутренних и внешних факторов трансформировалось и стало неотъемлемой частью исламской правовой культуры. См.: Сартори П., Шаблей П. Эксперименты империи. С. 111–124.
22
Там же. С. 129, 132–133.
23
Ремнев А. В. Российская империя и ислам в Казахской степи. С. 241.
24
Мы же видим совершенно иную картину: не только в деле Мансурова, но и в других случаях, не имевших никакого отношения к суфизму и исламу, чиновники использовали набор понятий и суждений, заимствованных из христианской истории: «лжесвятой», «религиозный раскол», «секта» и пр. См.: Crews R. D. For Prophet and Tsar. Р. 136–137. Подобная риторика была характерна и для европейцев, описывавших так называемые «туземные религии». См.: Subrahmanyam S. Europe’s India: Words, People, Empires, 1500–1800. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017. Р. 29, 103–143. Устойчивое проявление такого формализованного языка нельзя сводить только к невежеству абсолютного большинства чиновников. Как показывает Энн Столер на примере Голландской колониальной империи, местные административные деятели сознательно искажали в своих отчетах ситуацию на местах, используя категории и суждения, адаптированные к культурным представлениям правящего двора. См.: Stoler A. L. Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2009. Р. 56, 82–87.
25
Отдельные нормативные регламенты, имевшие отношение к суфизму, все же появились в 1830‑е годы. Однако они распространялись только на дервишей. См.: Положение Комитета министров «О воспрещении принимать дервишей в подданство России», 18 февраля 1836 г. // Ислам в Российской империи: законодательные акты, описания, статистика / Сост. Д. Ю. Арапов. М.: ИКЦ «Академкнига», 2001. С. 119.
26
Термин баксы и его производные встречаются в разных тюркских языках. В казахском языке он обычно сводится к значениям «знахарь», «учитель», «наставник».
27
См.: Morrison A. Sufism, Panislamism and Information Panic. Nil Sergeevich Lykoshin and the Aftermath of the Andijan Uprising // Past and Present. 2012. № 214. P. 255–304. О панисламизме и особенностях его артикуляции в различных контекстах см.: Aydin C. The Idea of the Muslim World: A Global Intellectual History. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017.
28
Stoler A. L. Along the Archival Grain. P. 20.
29
Невежество не сводится нами только к банальному отсутствию знаний или необразованности, но и включает в себя различные формы игнорирования знания, попытки уточнения и преодоления незнания, а также практики документации, которые из‑за особенностей своего языка и сюжетного однообразия создают очень ограниченное представление о контексте и исторической динамике. См. об этом: Zwierlein C. Imperial Unknowns: The French and British in the Mediterranean, 1650–1750. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. Р. 2.
30
Об особенностях этой продукции мы расскажем в главе 1.
31
Границы между так называемым «достоверным» знанием и областью фантазий были довольно подвижны не только потому, что одновременно могло существовать несколько противоречивых и разнообразных описаний, но и в силу сложности самих культурных и социальных явлений, специфику которых очень долго не могли понять европейцы. Среди таковых было, например, понятие «каста». См.: Subrahmanyam S. Europe’s India. Р. 36–44, 90–102.
32
Отсутствие компетентности в вопросах, связанных с исламом и суфизмом, конечно, не проливает свет на общее состояние дел в колониальной администрации. Так, например, уже в первой половине XIX века чиновники имели отчетливые представления о казахской родо-племенной структуре и хозяйственной системе. Эти знания, как правило, формировались благодаря переписям населения и скота, которые проводились ежегодно. См.: ЦГА РК. Ф. 374. Оп. 1. Д. 1011: «Об исчислении казахского населения и скота внешних округов для обложения их ясаком» (1842–1846).
33
Более подробно об особенностях культурных изменений среди мусульман Средней Азии, сформировавшихся под влиянием русского колониализма, см.: Sartori P. Vision of Justice: Shariʿa and Cultural Change in Russian Central Asia. Leiden; Boston: Brill, 2016.
34
Согласно Даниэлле Росс, такая риторика использовалась мусульманами Российской империи по крайней мере уже в начале XIX века. См.: Ross D. Tatar Empire: Kazan’s Muslims and the Making of Imperial Russia. Bloomington: Indiana University Press, 2020. Р. 56–60.
35
Наши соображения очень близки к идеям, высказанным Санджеем Субрахманьямом. См.: Subrahmanyam S. Courtly Encounters: Translating Courtliness and Violence in Early Modern Eurasia (Mary Flexner Lectures). Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012. P. 25–30.
36
Одним из таких влиятельных людей был тесть хана Внутренней казахской орды Джангира (годы правления: 1823–1845) есаул Караул-кожа Бабаджанов (годы жизни: 1775–1850). Он управлял 1‑й частью приморских казахов, а с 1834 года – большинством подразделений кочевников рода адай. См.: История Букеевского ханства. 1801–1852 гг.: Сб. документов и материалов / Сост. Б. Т. Жанаев, В. И. Иночкин, С. Х. Сагнаева. Алматы: Дайк-Пресс, 2002. С. 950–951.
37
Islamization and Sacred Lineages in Central Asia: The Legacy of Ishaq Bab in Narrative and Genealogical Traditions / Ed. by D. DeWeese, A. Muminov, M. Kemper, A. von Kügelgen. Almaty; Bern; Tashkent; Bloomington: Дайк-Пресс, 2013. Vol. 2. Genealogical Charters and Sacred Families: Nasab-Namas and Khojas Groups Linked to the Ishaq Bab Narrative, 19th–21st Centuries. P. 25–33. Как показывает в своих исследованиях Аллен Франк, среднеазиатские ишаны обычно принадлежали к группе ходжей. Исламовед считает, что в XIX веке понятия «ходжа» и «ишан» могли восприниматься мусульманами равнозначно. См.: Frank A. J. Gulag Miracles: Sufis and Stalinist Repressions in Kazakhstan. Vienna: Austrian Academy of Sciences Press, 2019. P. 34.