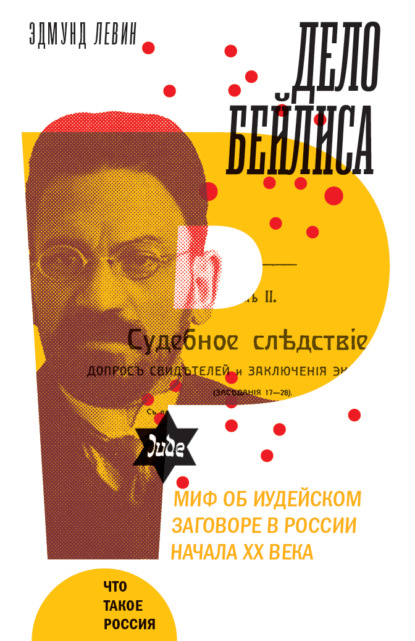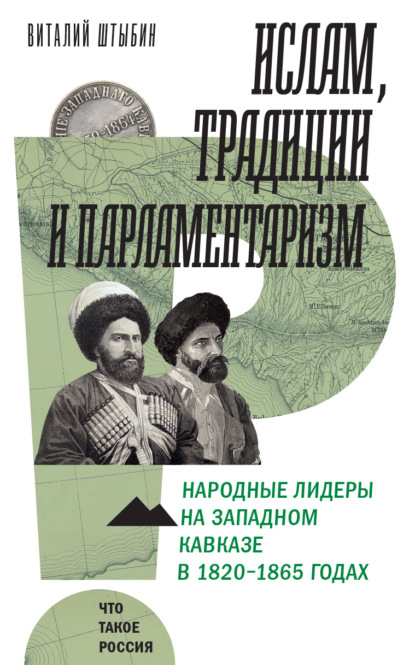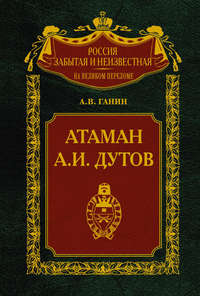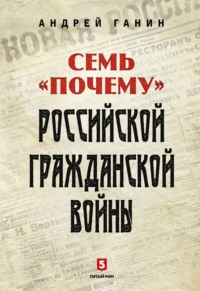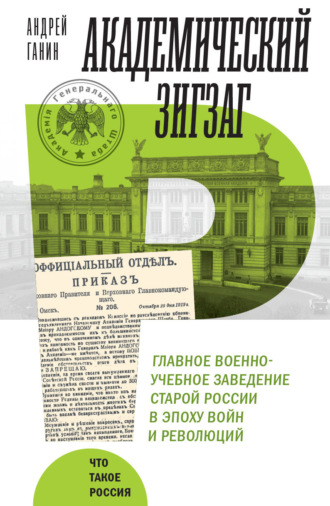
Полная версия
Академический зигзаг. Главное военно-учебное заведение старой России в эпоху войн и революций
Головин стал лидером неформального кружка борцов с традиционализмом и обскурантизмом. В его состав накануне Первой мировой войны входили молодые профессора и преподаватели академии: сам Головин, а также А. К. Келчевский, А. А. Незнамов, Н. Л. Юнаков, В. А. Черемисов, А. А. Балтийский, Б. В. Геруа, А. Ф. Матковский, П. И. Изместьев, В. З. Савельев, А. И. Андогский. Специальная дисциплина под названием «Служба Генерального штаба» начала преподаваться в академии лишь в 1911/12 учебном году. Целью этого курса было приближение академической программы к практике службы генштабистов, но особого эффекта нововведение в остававшиеся два предвоенных года не произвело.
Группа Головина столкнулась с противодействием со стороны старых профессоров академии и их сторонников, причем противники Головина в итоге взяли верх. В частности, интригами против группы Головина прославился будущий видный военный специалист РККА М. Д. Бонч-Бруевич, связанный с военным министром В. А. Сухомлиновым. Бонч-Бруевич распускал слухи о том, что участники кружка плетут заговор, и даже назвал их «младотурками» (по наименованию группы турецких офицеров, организовавшей в 1908 году вооруженный переворот в Османской империи). И хотя ни о каком заговоре на самом деле речи не шло, накануне Первой мировой войны участников кружка уволили из академии, был снят с должности и генерал Щербачев. Между тем политической составляющей в деятельности кружка не было, а сторонники Головина прекрасно проявили себя на фронтах Первой мировой войны.
Профессора и преподаватели
Профессорско-преподавательский состав на протяжении десятилетий почти не менялся. Это был особый мир, запоминавшийся слушателям на всю жизнь. Одним из старейших профессоров был Борис Михайлович Колюбакин, читавший курсы тактики и истории военного искусства. Как вспоминал генерал П. Н. Шатилов (выпуск 1908 года), Колюбакин
был представителем старой, отживающей школы. Будучи участником Турецкой войны, он строил свои тактические положения на тех основах руководства войсками, которые практиковались в то время. Все тактические примеры, приводимые в подтверждение излагаемых им положений, черпались из опыта войны 1877–[18]78 годов. Франко-прусская война 1870 года и операции 1904–1905 годов как бы прошли для него бесследно… но из его лекций можно было все же почерпнуть известные тактические положения, которые оставались нетронутыми и при развивавшейся, тогда еще очень медленно, военной технике.
Генерал Б. В. Геруа (выпуск 1904 года) характеризовал Колюбакина следующим образом:
Высокий, худощавый, с пенсне на большом и красноватом носу, с высоким, точно сплюснутым с боков лбом, уходящим в лысину, и с длинными бакенбардами типа сказочного царя Берендея, Колюбакин представлял удобную тему для карикатуриста. С целью скрыть величину своих непропорционально больших и плоских ступней он носил брюки длиннее положенного, и они спадали широкой складкой на подъем ступни…
Основной его чертой была леность. Он приходил на лекцию с опозданием на 15–20 минут и норовил уйти минут за 10 до конца. В те полчаса, которые ему оставались, он отрывисто «бросал в аудиторию идеи»…
Курс Колюбакина состоял сплошь из «коньков», и Боже сохрани было обмолвиться и вместо «рода войск» сказать «род оружия»…
Сноровистые слушатели составили список колюбакинских коньков в форме катехизиса – вопросов и ответов – и окрестили эти ответы «рыбьими словами»…
Военно-исторический анализ Колюбакина всегда был интересен… От слушателей Колюбакин требовал не запоминания фактов и частностей, а их понимания и способности главное отделять от второстепенного…
У Колюбакина проступали задатки хорошего лектора, педагога и мыслителя, но природная лень мешала ему развернуться. В очень редких случаях он раскачивался, побуждаемый тем или иным обстоятельством, и выступал с публичным докладом после тщательной подготовки. Тогда он поражал свою аудиторию. Но после такого усилия Колюбакин снова засыпал, и надолго. В результате комическая слава «рыбьих слов» заслонила настоящую скрытую цену Бориса Михайловича как военного ученого и философа…
Профессорская служба в академии вполне удовлетворяла Колюбакина, и он никуда оттуда не стремился.
По свидетельству полковника Д. Н. Тихобразова (выпуск 1913 года),
генерал Колюбакин, заслуженный ординарный профессор с седеющими волосами и богатой двухконечной бородой, цветов красноречия не любил. Да они и не подошли бы к его хрипловатому, порывистому голосу, которым он излагал образно историю военного искусства с древности (на младшем курсе), переходя к наполеоновым войнам на втором и совершенно не заботясь о гладкости своих фраз. Такой же характер носили и его требования к экзаменующимся. Вспоминая Колюбакина, вижу его, объясняющего нам тактику римских легионов. Встав из‑за профессорского стола с указкой в руках и выпрямившись во весь свой рост, он делает по подиуму короткие шаги в облическом направлении, прикрывая свое левое плечо воображаемым римским щитом, который, почти соприкасаясь с соседними, служит составной частью сплошного укрытия развернутого строя римских легионеров. И образно, и ясно…
Колюбакин был видным военным историком, членом Русского военно-исторического общества и одним из инициаторов создания художником-баталистом Ф. А. Рубо знаменитой панорамы «Бородино», а также официальным консультантом Рубо в период работы над панорамой. При этом слушатели не считали его выдающимся педагогом. Б. А. Энгельгардт (выпуск 1903 года) отмечал: «К сожалению, Колюбакин не был талантливым лектором, способным захватить всю аудиторию и держать ее в напряженном внимании».
Другим живым свидетелем истории академии был профессор Григорий Григорьевич Христиани. По характеристике генерала В. Н. Касаткина (выпуск 1911 года), «швед по происхожд[ению], человек четкий и аккуратный». Это был худощавый человек с небольшой седой бородкой и усами. По свидетельству Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова (выпуск 1910 года), «хотя и скучный был предмет военная статистика, но Христиани читал его с полным знанием дела и очень доходчиво». Генерал П. С. Махров (выпуск 1907 года) вспоминал о Христиани:
На кафедре он держался как-то странно: его шея и левое плечо были свернуты несколько в правую сторону, и он был сутуловат.
В нем не было никакой военной выправки: высокий и грузный, он имел вид болезненный.
Читал он курс довольно скучно и монотонно по отделу статистики Индии… Как руководитель практическими занятиями он много лучше был, чем лектор. На экзаменах он был снисходителен.
Несмотря на то что Христиани являлся выходцем из гвардии, он был справедлив при оценке знаний офицеров, не делая различия между армейцами и гвардейцами.
В общем, это не был талантливый профессор, но добросовестный труженик.
По мнению Д. Н. Тихобразова, Христиани «имел репутацию очень требовательного человека и объемом своего курса военной статистики и своей строгостью нагонял на многих коллег немалый страх». Колюбакин и Христиани будут сопровождать нас на протяжении всей книги, так что к ним мы еще не раз вернемся.
Выдающимся военным топографом и астрономом, обладавшим международной известностью, был профессор В. В. Витковский. Он столь глубоко увлекался наукой, что даже собственный дом назвал «виллой Геодезия», а рядом разбил аллею, ориентированную вдоль Пулковского меридиана. Заслуги Витковского признавались и в советское время, тем более что он в 1918 году не покинул Петроград и, в отличие от коллег по академии, остался в Советской России. Скончался он в 1924 году. В 1920‑е – начале 1930‑х годов в Ленинграде при Доме инженеров действовал топографо-геодезический кружок по увековечению памяти Витковского, который позднее был объявлен контрреволюционным. Именем генерала ныне названа улица в Санкт-Петербурге. Витковский отличался снисходительностью к слушателям и не ставил низких баллов, поскольку, по непроверенным сведениям, один из офицеров, получивших у него низкий балл, застрелился.
Настоящим патриархом академии был заслуженный преподаватель съемки и черчения генерал А. А. Зейфарт, преподававший эти дисциплины ни много ни мало с 1857 года. «Великий инквизитор „штрихоблудия“» – так его метко охарактеризовал Б. В. Геруа за мелочное внимание к штриховке карт. Ко времени увольнения Зейфарта со службы по болезни в 1917 году через него прошло около 60 академических выпусков. Генерал бодрился и даже гордился тем, что, несмотря на преклонный возраст, не пропускал ни одного часа занятий.
Несомненно талантливыми и относительно молодыми профессорами предвоенной академии были В. Г. Болдырев, Б. В. Геруа, М. А. Иностранцев и А. К. Келчевский.
Вполне искреннее свидетельство о характере своей службы в академии привел в показаниях по делу «Весна» бывший преподаватель верховой езды В. Ф. Менжинский:
С 1907 г. по Октябрьскую революцию я служил в Николаевской академии, честно отдавая силы на укрепление армии, на укрепление государства и защиты Родины, существующего строя – абсолютной монархии. Мои политические убеждения до 1917 года не были чисто монархическими, так как существующая несправедливость к армейским офицерам в душе меня обижала в то время, как в гвардии в моем положении офицеры были в лучших условиях и имели преимущества в продвижении по службе и проч[ем], других же убеждений у меня не было.
Думается, такие взгляды были распространены среди преподавателей.
Глава 2. Военное время
В полузакрытом состоянии
18 июля 1914 года приказом по академии занятия были прекращены ввиду общей мобилизации, а на следующий день Российская империя вступила в ставшую для нее роковой Первую мировую войну.
Несмотря на то что слушатели отучились год или два, их отчислили в свои части нести строевую службу на передовой. На фронт отправились и преподаватели. В дальнейшем прекращение учебного процесса в академии было признано серьезной ошибкой.
Один из слушателей, впоследствии полковник П. К. Ясевич вспоминал:
Памятен день общей мобилизации – 18 июля (по ст[арому] ст[илю]), когда начальник академии генерал князь Енгалычев собрал весь состав академии и объявил, что он только что представлялся государю императору, академия закрывается, все офицеры направляются в свои части, преподавательский персонал получает назначение в армию, он же лично и полуэскадрон академии назначается в распоряжение его величества.
Начальник академии заявил, что он доложил государю императору о чувствах преданности и жертвенной готовности [служить] Престолу и Отечеству всего состава академии, готового на ратные подвиги. Его величеству благоугодно было через начальника академии передать слушателям академии, а через них в армию, куда направлялись эти слушатели, что «он уверен, что долг свой армия и ее офицеры выполнят», но что его величество «просит офицеров беречь себя для будущей России и, полюбив походную боевую жизнь, вернуться оттуда с боевыми наградами».
Энтузиазм всего состава академии не поддается описанию, и все спешили в тот же день получить все расчеты в академии, дабы срочно отправиться в свои части, которые уже мобилизовались.
Некоторые из назначенных на фронт преподавателей не имели боевого опыта и заметно волновались. Профессор М. А. Иностранцев зафиксировал эти свои переживания:
Для меня – офицера Генерального штаба по специальности, около 15 лет преподававшего тактику, профессора академии и руководившего тактическими занятиями и полевыми поездками в течение многих лет, сама техника отдачи приказа дивизии для походного движения, конечно, не представляла затруднения, но тем не менее, диктуя этот приказ адъютанту и двум офицерам-ординарцам, я ощущал небывалое со мной ранее волнение. Я чувствовал, что диктую на этот раз не шаблонные, стереотипные фразы приказа, а хотя и скромный по своему значению, но все-таки исторический документ. Я ясно отдавал себе отчет, что на основании произносимых мною фраз и выражений на следующий день более чем 14 000 человек придут в движение, будут проливать кровь и умирать.
Управление зданиями, имуществом и сокращенным личным составом академии было возложено на старшего из оставшихся генералов. 14 августа 1914 года временно исполняющим должность начальника академии был назначен 79-летний генерал-лейтенант А. А. Зейфарт, прослуживший в академии 57 лет. Однако ввиду болезни Зейфарта академию вместо него с того же числа временно возглавлял следующий по старшинству генерал-лейтенант В. В. Витковский (официально в должности он считался с 22 февраля 1915 года). Для потребностей эвакуационного госпиталя имени наследника цесаревича Алексея Николаевича академия освобождала правую половину своего здания на Суворовском проспекте, залы конференции (коллегиального руководящего органа академии из администрации и преподавателей) и аудитории младшего класса.
По воспоминаниям профессора Витковского,
вся деятельность канцелярии сводилась тогда… почти исключительно к составлению ведомостей на обычное содержание и неурочные выдачи наградных… Получался какой-то заколдованный круг: бухгалтерские исчисления и составление ведомостей на наградные деньги требовали известного труда, за который просились награды; но самые эти награды, по существу дела, вызывали числовые выкладки, за производство которых надо опять награждать и т. д. до бесконечности.
Унылую повседневность полузакрытого учебного заведения несколько разнообразили поступавшие в библиотеку описания боевых действий, наставления, карты и схемы. Иногда отмечались торжественные события. Так, 6 мая 1915 года на благодарственном молебствии в Суворовской церкви по случаю дня рождения императора весь административный состав академии присутствовал в форме военного времени при орденах. Но в обычной жизни старых профессоров мало что изменилось: например, Б. М. Колюбакин, как в мирное время, отпуск провел в Крыму.
27 сентября 1915 года Витковского сменил генерал-лейтенант Г. Г. Христиани. Подводя итог своей деятельности в 1914–1915 годах, Витковский отмечал:
Итак, не перечисляя забот, тоже не совсем приятных, по ремонту зданий, заготовке топлива и т. п., вся моя деятельность на посту исправляющего должность начальника академии заключалась почти исключительно в непрерывной и горячей борьбе с самыми низменными и назойливыми требованиями со стороны канцелярских чиновников денег, денег и денег. К стыду своему, я вынужден сознаться, что борьбы этой я не выдержал и вынужден был уйти с поста…
Из такого рода бытовых мелочей и складывалась академическая жизнь в первые годы войны.
Кадровый голод
К октябрю 1917 года в русской армии насчитывалось от 307 до 320 тысяч офицеров, среди которых до 260 тысяч составляли офицеры военного времени (из них многие впервые взяли в руки оружие в годы Первой мировой войны). Схожий процесс, обусловленный ростом численности воюющей армии, наблюдался в военной элите страны – среди офицеров, прошедших подготовку в Императорской Николаевской военной академии и служивших по Генштабу.
Накануне войны руководство русской армии не предполагало, что в военное время может возникнуть дефицит кадров Генерального штаба. Существовал резерв подготовленных офицеров, в который входили преподаватели военных училищ и академии, служащие центральных учреждений, а также выпускной курс академии. Тем не менее нехватка генштабистов стала заметной уже в 1914 году. В докладе по штабу Верховного главнокомандующего 16 декабря 1914 года генерал-квартирмейстер Ставки генерал от инфантерии Ю. Н. Данилов писал:
В настоящее время в штабах действующих армий ощущается недостаток в офицерах Генерального штаба, который с каждым днем возрастает, вследствие значительно большего числа назначений офицеров Генерального штаба на высшие командные должности, а в особенности на должности командиров полков, чем в мирное время.
Поначалу проблему пытались решить бюрократически – посредством изменения правил прохождения службы. Начались массовые причисления к Генштабу и переводы в него ранее обучавшихся. В 1915 году были досрочно переведены в Генеральный штаб ранее причисленные к Генштабу офицеры выпусков 1912–1914 годов, причислены и переведены в Генеральный штаб обер-офицеры, окончившие академию по второму разряду в 1912–1914 годах, причислены к Генеральному штабу офицеры, переведенные на дополнительный курс академии в 1914 году (то есть окончившие два класса; они считались выпуском 1915 года). Обязательную для штаб-офицеров Генштаба двухгодичную практику командования полком сократили до годичной. В мае 1915 года офицерам, выдержавшим предварительные экзамены в академию в мирное время, разрешили переходить на штабную службу без специальной подготовки. Несмотря на эти меры, нехватка кадров по-прежнему ощущалась.
Начальник штаба 10‑й армии генерал-майор И. И. Попов писал исполняющему должность генерал-квартирмейстера Ставки генерал-майору М. С. Пустовойтенко 13 февраля 1916 года:
Недостаток же офицеров Генерального штаба настолько ощутителен, что теперь пришлось для этой ответственной и нелегкой службы привлекать офицеров, только понюхавших академии, что, конечно, не разрешает этого острого вопроса…
В мае 1916 года около 50% должностей старших адъютантов дивизионных штабов замещали обычные строевые офицеры (известны случаи назначения на эти должности офицеров, вообще не имевших отношения к службе в армии до войны), начальниками штабов дивизий становились капитаны, хотя и с академическим образованием, но не пробывшие в обер-офицерских чинах достаточно времени. Постепенно генштабистов не оставалось и на обер-офицерских должностях в корпусном звене.
С фронтов в Ставку поступали тревожные телеграммы. Например, начальник штаба Западного фронта генерал-лейтенант М. Ф. Квецинский телеграфировал генерал-квартирмейстеру Ставки 24 декабря 1916 года:
Во всех младших штабах ощущается крайний недостаток офицеров Генерального штаба. Из 13 штабов корпусов лишь 4 имеют по 2 офицера Генерального штаба (штаб-офицер и старший адъютант), из 36 дивизий 10 вовсе не имеют офицеров Генерального штаба, кроме начальников штабов. Эти обстоятельства приводят к необходимости теперь же вернуть для службы Генеральном штабе командиров полков, сократив для сего обязательный годичный командный ценз. Этим, конечно, не будет достигнуто коренное решение этого вопроса, но указанная мера составит известную помощь в трудном деле формирования новых штабов.
При этом в декабре 1916 года было принято решение о формировании 57 новых дивизий, для которых, соответственно, требовались квалифицированные штабные работники.
К началу 1917 года армия нуждалась уже в 1329 офицерах Генерального штаба, а реально генштабистов и офицеров, причисленных к штабам, насчитывалось только 765 человек. Некомплект составлял 564 офицера, или 42,4%. В результате к началу июля 1917 года офицеры, окончившие академию до 1912 года, занимали уже старшие должности в штабах фронтов и армий, а на должностях начальников штабов дивизий оказывались окончившие академию в 1914 году. Требовалось возобновить подготовку кадров в академии, причем как можно скорее.
Поиски решения
Понимание необходимости отказаться от условностей и обеспечить экстренный выпуск сотен генштабистов по сокращенной программе пришло к военному руководству империи не сразу. В докладе по штабу Верховного главнокомандующего от 16 апреля 1916 года отмечалось, что офицерами Генерального штаба замещены только 50% положенных должностей, еще 30% замещали причисленные к Генштабу и 20% составляли офицеры без подготовки, лишь выдержавшие экзамены для поступления в академию. Служба по Генштабу в ходе войны в сочетании с ускоренной теоретической подготовкой могли дать хороший результат. В докладе отмечалось, что для открытия академии не требовалось ослаблять действующую армию, поскольку в Петрограде оставались профессора В. В. Витковский, Б. М. Колюбакин, Н. П. Михневич, А. З. Мышлаевский, Г. Г. Христиани. Однако считалось, что академию непременно должен возглавить генерал – участник войны. Предлагалось открыть академические курсы военного времени, которые могли лишь дать право их выпускникам в будущем поступить в академию без экзаменов. Позднее, однако, от этих принципов пришлось отказаться.
Готовить кадры предполагалось либо в самой академии в Петрограде, либо в особых школах на театре военных действий, чтобы не отвлекать генштабистов-фронтовиков (этот вариант предлагал генерал Н. Н. Головин).
Весной 1916 года Ставка запустила механизм подготовки к открытию академии. Материалы доклада Ставки 18 апреля были доложены начальником штаба Верховного главнокомандующего генерал-адъютантом М. В. Алексеевым военному министру, генералу от инфантерии Д. С. Шуваеву, который его одобрил. Начальнику Генерального штаба генералу от инфантерии М. А. Беляеву было поручено представить соображения по проекту. Разработка положения по распоряжению ГУГШ была возложена на исполняющего должность начальника академии генерал-майора В. Н. Петерса (с осени 1916 года он стал Камневым, таким образом переведя прежнюю фамилию с латыни). Петерс-Камнев вступил в должность начальника академии 4 августа 1916 года на основании Высочайшего приказа от 20 июля, сменив генерала Христиани.
8 июля 1916 года Петерс представил первоначальный проект академических курсов военного времени, который, после одобрения военным министром, 12 июля был доложен генералу М. В. Алексееву.
Согласно учебному плану, три лекции читались с 9 до 12 часов, после часового перерыва, с 13 до 15, читались еще две лекции, а с 15 до 18 проводились практические занятия.
По одному из первоначальных проектов на курсы вызывались все слушатели младшего класса 1913/14 года обучения (таковых к июню 1916 года оставалось не более 79 человек), кроме того, в течение трех предвоенных лет младший класс прошли, а затем были отчислены из старшего 9 офицеров; также вызывались 30 (затем 50) офицеров из числа выдержавших предварительные письменные экзамены при военных округах в 1914 году (из 826 сдававших экзамены их выдержали 420 человек2). По 30 офицеров ожидались с фронтов Европейской России и 20 – от Кавказской армии. Всего принимали не более 110 офицеров. Каждый класс должен был длиться пять месяцев, затем в течение двух месяцев предполагалась практика. Открытие академических курсов военного времени готовилось в спешке и было намечено на 1 августа 1916 года. Для слушателей предполагалось устроить общежитие на 100 человек, желающим им воспользоваться требовалось взять походные кровати. Первый выпуск предполагался 1 января 1917 года; к 1 августа 1918 года намечалось выпустить 400 офицеров, которые после войны должны были сдать темы дополнительного курса.
Будущий слушатель академии штабс-капитан В. М. Цейтлин записал в дневнике 15 июля 1916 года: «Из числа выдержавших предварительный экзамен в академию требуют 50 человек от нашего фронта достойнейших, вот тут и разберись, кто же должен аттестацию и где будет выбор и отбор».
23 июля 1916 года в Петроград начали съезжаться слушатели, однако генерал Алексеев счел, что открытие курсов в августе ничего не даст штабной службе в сравнении с ноябрем и отнимет у фронта около 170 работников. 28 июля, за четыре дня до открытия, он распорядился перенести его на 1 ноября. Прибывшие в Петроград слушатели были вынуждены вернуться в свои части, причем многие в результате перестановок не попали в академию осенью и смогли поступить лишь на курсы 2‑й очереди в 1917 году.
К сентябрю 1916 года на 110 вакансий 1‑й очереди и столько же 2‑й очереди уже имелось 460 кандидатов, выдержавших перед войной экзамен в академию. Назначения выдавали фронтовые штабы. Академические истории некоторых офицеров, стремившихся на курсы и вынужденных преодолевать бюрократические препоны, удивительны. К примеру, штабс-капитан артиллерист И. А. Чернявский в 1910–1912 годах обучался в академии, однако по болезни был оставлен на второй год в старшем классе и вторично его прослушал в 1912/13 учебном году, затем был отчислен как не выдержавший экзамен по иностранной статистике, но с правом поступления в старший класс. Весной 1914 года Чернявский держал переводные экзамены в старший класс, причем ему были зачтены прежние баллы за полевые поездки. Попытку восстановиться прервала Первая мировая война. Чернявский участвовал в боевых действиях, был награжден несколькими орденами. Лишь в 1917 году ему довелось попасть в старший класс ускоренных курсов академии (не без сложностей, так как к тому времени он служил на преподавательской должности, а на курсы набирали офицеров с фронта), после чего Чернявский наконец был причислен к Генштабу и переведен в него. Академический путь растянулся у офицера на долгих семь лет.
30 сентября Алексеев вернулся к вопросу о программе курсов и сообщил военному министру о необходимости переработать проект. По его мнению, для младших должностей Генштаба «не требуется той широкой образовательной программы, которую наметил проект Военного министерства». При этом Алексеев был вполне согласен с идеей «скорее пополнить действующую армию офицерами, ознакомленными со службой Генерального штаба и подготовленными только к занятию младших должностей по Генеральному штабу».