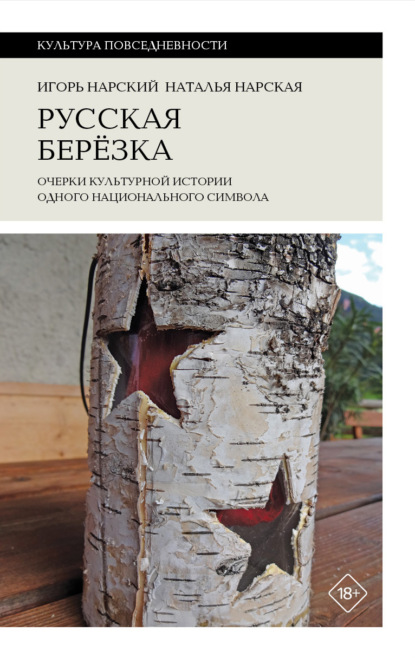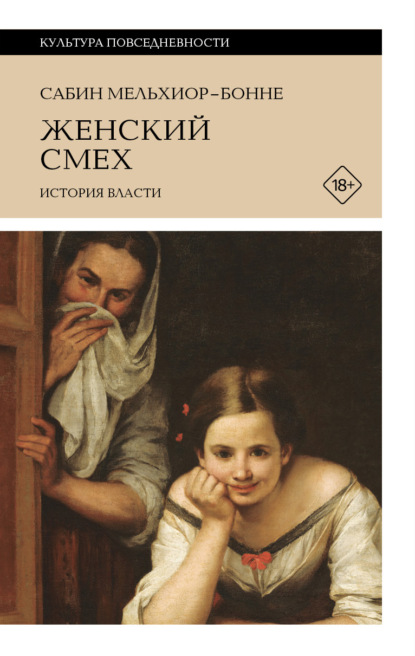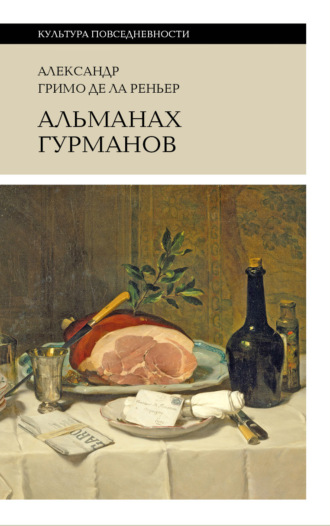
Полная версия
Альманах гурманов
В текстах Гримо встречаются вещи посильнее – здесь, например, изобретатели оригинальных блюд именуются «отцами гурманской церкви» (УА, 12765), Ватель (дворецкий, покончивший с собой из-за того, что к столу вовремя не доставили свежую морскую рыбу) называется «мучеником, чье имя открывает гастрономические святцы» (наст. изд., с. 572), а про «великодушную свинью» говорится, что она спешит в Париж, «чтобы по слову Кора и Массона, Жана и Кайо плоть и кровь ее преобразились в кровяные колбаски и аппетитные сосиски» (наст. изд., с. 590).
Этот юмор на грани кощунства не смущал, по всей вероятности, ту часть публики, которая раскупала АГ, но очень не нравился блюстителям нравственности из числа журналистов. Рецензент из «Газеты искусств, наук и литературы» (1807, т. 17) возмущается цинизмом Гримо, дерзающего ставить изобретателя паштета из осетрины на одну доску с изобретателями компаса и книгопечатания, гурманскую мораль – на одну доску с моралью христианской, а автора «Альманаха Гурманов» – на одну доску с величайшими мыслителями и писателями, Паскалем и Лабрюйером66. Сходным образом другой рецензент, опубликовавший свою негодующую статью об альманахе в «Газет де Франс» 1 января 1813 года, возмущается тем, что его автор «рассуждает о гастрономии так же серьезно, как о медицине или юриспруденции» (не говоря уже о Церкви).
Рецензенты не хотели соглашаться с тем, что еда главнее жизни и что в жизни нет ничего важнее, чем обед, а Гримо на этом настаивал – отчасти, конечно, по причине игривого склада ума и игрового стиля письма, но, как нам кажется, были у этого упорства и причины более серьезные. Причины эти заключались в том, что Гримо создавал свои альманахи в послереволюционную эпоху.
По воспитанию и культуре Гримо был, как нетрудно заметить хотя бы по именам тех авторов, на которых он ссылается, человек XVIII века67 (что нисколько не удивительно, учитывая его год рождения – 1758). Его любимцы – это критики XVIII века, ведущие «внутрипартийную» борьбу с Вольтером, это комедиографы XVIII века и поэты того же столетия, сочинители застольных песенок, которым посвящена отдельная глава в АГ–2. И стиль Гримо, иронический, но одновременно слегка высокопарный, многословный и перифрастический,– это тоже в большой степени стиль XVIII века. Однако автор «Альманаха Гурманов» очень хорошо сознавал, что живет и пишет он в веке XIX-м (см. подпись под фронтисписом АГ–1 – «Библиотека Гурмана XIX столетия»). В одном из томов альманаха Гримо уверяет, что главным событием этого нового века стало изобретение сотейника (АГ–7, 60), однако в реальности ХIХ столетие было не только эпохой сотейника, но еще и эпохой, наступившей после французской Революции, которая оказала огромное влияние на мир в целом и на «гурманскую вселенную» в частности, и автору «Альманаха Гурманов» это было прекрасно известно.
Конечно, храня верность своему «гурманоцентризму», Гримо клеймит в первую очередь такие пагубные последствия Революции, как уничтожение погребов со старинными винами (глава «О вине» в АГ–2) или необратимые перемены в употреблении вина шабли: «До того, как Революция все смешала и все извратила, врачи прописывали больным шабли для излечения подагры и камней в почках, и на очень многих это средство оказывало действие поистине волшебное» (АГ–5, 23). Однако в других местах он пишет о вещах куда более глобальных – о перемене отношений между сословиями и даже между отдельными людьми. Перемена отношений между сословиями – это переход богатства от старинной знати к «новым французам», вчерашним крестьянам или мещанам, которые обзавелись особняками и миллионами, но не умеют ни заказать обед, ни принять гостей, ни разрезать за столом индейку или окорок. Эти изменения Гримо подробно разбирает в предисловиях к первому тому «Альманаха Гурманов» и к «Учебнику для Амфитрионов». И там и там он формулирует свою цель – научить новых французов учтивости, правилам науки «жить в свете», а именно – за столом68.
В последнем томе «Альманаха Гурманов», в главе, носящей «историческое» название «О совершенствовании поваренного искусства в XIX столетии», Гримо подводит итог своим достижениям в этой сфере: «Рискуя заслужить упреки в смешном тщеславии, позволим себе заметить, что к совершенствованию поваренного искусства приложили руку и мы с нашим сочинением. После 1803 года, когда “Альманах Гурманов” впервые увидел свет, среди гостей и Амфитрионов распространилась привычка исследовать и улучшать великое искусство ублажения желудков. Чувство голода, губительное для искусства, ибо голодный человек ест все без разбору, было оставлено толпе; у знатоков его заместил аппетит, возбуждаемый посредством поваренной науки. В обеде стали видеть не простую последовательность вводных блюд, жаркого и блюд преддесертных; в тех, кто этот обед готовит, перестали видеть заурядных поварят; труд их стал цениться высоко, и соревновательность, мать совершенства, воодушевила поваров на новые подвиги. На Амфитриона перестали смотреть как на некий автомат, чьи достоинства сводятся к способности тратить свои деньги на прокорм людей острого ума; за ним самим признали острый ум, а застолье сделалось плацдармом для решения дел политических и литературных, финансовых и коммерческих» (АГ–8, 60–61).
Все это очень важно, как важно и то, что сам взлет парижского и, шире, французского чревоугодия был своего рода компенсацией за страхи и лишения голодных революционных лет. Но одно первостепенное свойство застолья в этом перечне опущено. Между тем в других местах Гримо недвусмысленно дает понять, что видит в застолье не только место для улаживания разных дел, но и место смягчения, а то и вовсе уничтожения социальных конфликтов, место, где царит взаимная уступчивость, куда нет доступа распрям и обидам. Такая атмосфера, по свидетельствам бесчисленного множества мемуаристов, царила в парижских салонах XVIII века. Это та самая атмосфера, которая у Гримо описана во втором томе «Альманаха Гурманов» в главе «Об ужине», где автор оплакивает оставшиеся в прошлом веке «восхитительные ужины, которые собирали в святилищах роскоши весь цвет двора, города и словесности и во время которых между гостями было куда больше равенства, неразлучного с истинным наслаждением, нежели при провозглашенной вскоре республике; ужины, где люди родовитые, сановные, умные и зажиточные мерялись исключительно любезностью, вкусом и изяществом; где никто не хвастал выдающимися достоинствами, ибо жизнь в свете научала всех смирять самолюбивые порывы; где первая красавица и модный поэт, всемогущий министр и придворный фаворит казались одинаково ревностными приверженцами истинной свободы» (наст. изд., с. 305).
Все мемуаристы не только единодушно прославляют ту гармонию, которая существовала в салонах некогда, но также единодушно утверждают, что конец ей положила Революция, которая заменила всеобщее согласие политическими распрями, проникнувшими повсюду, в том числе – свидетельствует Гримо – и в застолье: «все общественные собрания превратились в самые настоящие арены; высказывать мнение о чем бы то ни было сделалось опасно […] учтивость покинула табльдоты, и трапеза за общим столом превратилась в форменный грабеж; порядочные люди за такой стол сесть не осмеливались, прочие не могли поладить» (с. 552).
Революционное переустройство всего общества в целом не удалось; Гримо предлагает другой путь: перестроить по предлагаемым им самим законам общество Амфитрионов и гостей, а об остальных не заботиться (ведь гастрономический мир превыше всего). Таким путем можно будет вернуть утраченную гармонию, потерянный социальный мир, который в салонах XVIII века создавался «сам собой», а теперь, в начале века XIX-го, требует от законодателя Гримо определенных усилий. Именно для этого он желает обучить «новых французов» законам застольной учтивости (той самой, которую до Революции презирал и пародировал). Иногда он приоткрывает эту «сверхзадачу»: гастрономический порядок, говорит он, устанавливается ради того, чтобы «все гости, даже самые робкие, наелись вдоволь и ощутили, что их связует тот дух братства, какой совместная трапеза рождает куда скорее, чем все так называемые республиканские конституции» и чтобы из знания Амфитрионами и гостями своих обязанностей родилось «то согласие, то братство и та гурманская гармония между хозяевами дома и их сотрапезниками, которая одна только и может даровать тем и другим блаженство сколько-нибудь продолжительное» (наст. изд., с. 516, 622–623). Последние строки – это финал последней главы «Учебника для Амфитрионов», а значит, мысль, для автора крайне важная.
Конечно, Гримо очень сильно идеализировал застольную учтивость69; достаточно сравнить его идиллическое описание дореволюционных табльдотов, где каждый якобы был готов добровольно уступить другому лучший кусок, с изображением тех же табльдотов в написанной по свежим следам «Картине Парижа» Мерсье, чтобы понять, что для беспристрастного современника никакой социальной гармонией там и не пахло70. Гримо и сам сознавал, что, например, среди «любителей обедать в гостях» есть не только люди, способные отплатить хозяину за гостеприимство приятной беседой, но и нахлебники-«паразиты», готовые хозяина не только объесть, но и обобрать.
Но в том-то и заключается оригинальность Гримо де Ла Реньера, что крайний практицизм он сочетал с крайним же утопизмом. Практичности автору «Альманаха Гурманов» было, как мы видели, не занимать; он знал, где что продается и что сколько стоит, помнил, при какой власти живет, и умел при случае сделать новому режиму приличный комплимент (ср. пассаж о сладких плодах 18 брюмера в финале главы «О полднике» – наст. изд., с. 303). И для установления равенства за столом Гримо предлагал совершенно конкретные меры: например, никто не должен пользоваться за столом услугами собственных лакеев, потому что у богатых они есть, а у бедных нет; всем должны прислуживать лакеи хозяина дома, тогда бедным гостям не придется унижаться перед богатыми, а для того чтобы все вообще могли обходиться без помощи слуг, нужно отменить порочный обычай оставлять вино в распоряжении лакеев, как это зачастую делали в XVIII веке; бутылки должны стоять на столе, и тогда каждый гость сам нальет себе столько вина, сколько захочет.
Но эта практичность совершенно не отменяет утопической составляющей текстов Гримо, в котором можно увидеть не только последователя Ретифа де Ла Бретона (тот в своих сочинениях предлагал планы переустройства самых разных сфер жизни, включая публичные дома), но и предшественника Сен-Симона и Фурье71. Только утопия у Гримо была особого рода – гастрономическая. Как всякий утопист, Гримо стремится к целостному, тотальному описанию мира72 (в его случае – мира гастрономического, который вытесняет и заменяет большой социальный мир); в этом мире он желает установить такой порядок, при котором все распри исчезли бы и между людьми воцарилось согласие73. Как всякий утопист, он желает достичь идиллической гармонии и всеобщего благоденствия с помощью мелочных предписаний74; как всякий утопист, намеревается привести людей к миру и гармонии с помощью самого деспотического принуждения (не случайно он апеллирует к «гурманской полиции», которая должна призвать к порядку некоего зарвавшегося торговца75). Мир, который Гримо хочет построить, утопичен, но элементы, из которых он его строит (правила поведения за столом), вполне реальны. Впрочем, конкретность в мелочах и фантастичность в результатах – особенность всех утопистов; Фурье тоже регламентировал жизнь в придуманном им мире во всех подробностях76. Кстати, Фурье на свой лад был также неравнодушен к гастрономической стороне жизни в изобретенной им стране Гармонии: меню для ее жителей призваны были разрабатывать специально обученные люди – «гастрософы»; другое дело, что у Фурье этот продуманный до мелочей рацион – лишь часть утопического мира, в котором существуют и другие сферы, а у Гримо идеальный гурманский мир замещал мир реальный. И вдобавок Фурье, говорят, никогда не смеялся. Чего никак нельзя сказать о Гримо.
* * *Гримо – бытописатель, историк гастрономии, остроумный литератор – интересен и без учета утопических притязаний, но они прибавляют к его портрету очень важные оттенки, а главное, отличают его от многочисленных последователей, продолжавших разрабатывать открытую им тематику без этой утопической сверхзадачи77.
Последний, восьмой том «Альманаха Гурманов» Гримо выпустил в 1812 году. Есть сведения, что он собирался продолжить работу и выпустить девятый том в 1820, в 1822, в 1826 и даже в 1832 году78. Однако ни один из планов не осуществился. Вообще после альманаха Гримо уже ничего не писал, кроме писем. 26 мая 1812 года он провел последнее, 465-е парижское заседание Дегустационного суда, в июне этого года приобрел в парижском пригороде Вилье-сюр-Орж поместье под названием Сеньория и переселился туда на постоянное жительство79; в Сеньории он иногда устраивал обеды для старых друзей, которые именовал сельскими заседаниями Дегустационного суда, однако то была лишь оболочка без прежнего содержания. В Сеньории Гримо и скончался 25 декабря 1837 года, успев еще прочесть произведения некоторых продолжателей своего дела.
Кто-то из них использовал название и построение его альманаха, кто-то просто разрабатывал тематику, к которой он привлек внимание публики, и развивал традиции «гурманской литературы».
Впрочем, самыми первыми, как это всегда и бывает, откликнулись пересмешники-пародисты. Если Гримо учил, как питаться вкусно и изысканно, пародисты давали уроки от противного: как есть невкусно или вовсе не есть. Так, уже 1803 году вышли в том же формате книжечка «Дерьмиана, или Поносный учебник, продолжение Альманаха Гурманов»80 и «Постоянный альманах голодранцев, составленный для исправления Альманаха Гурманов»81, а в 1808 году появилась книга «Анналы голодания, дополнение Альманаха Гурманов»82 – рассказ (с сильным привкусом социального протеста) бедняка о том, как существовать, не только не имея роскошного стола, но и вообще, что называется, питаясь воздухом. Автором этой книги на титульном листе объявлен сам Гримо, хотя в книге он упоминается в третьем лице, а главное, вся суть книги противоположна духу его сочинений, зато форма ее полностью повторяет форму «Альманаха Гурманов»: книгу предваряет фронтиспис с изображением пустого стола, место «Календаря снеди» занимает «Календарь несчастий», а место рецептов вкусных блюд – советы, как выжить вовсе без еды.
Чуть позже пародистов к делу подключились единомышленники. И если сами тексты альманахов Гримо де Ла Реньера французы начали переиздавать отдельными книгами только во второй половине XX века, то к придуманным им названию и структуре они прибегали и раньше.
Первое настоящее (а не шутовское) продолжение «Альманаха Гурманов» появилось, собственно говоря, не только при жизни Гримо, но и при его участии; это «Газета гурманов и красавиц»83, которая выходила с 1806 года стараниями тех же авторов, которые входили в общество «Новый погребок» и собирались на ежемесячные обеды в ресторане «Канкальская скала». Гримо, также принадлежавший к этому кругу, на первых порах принимал участие в выпуске газеты, но скоро понял, что это – конкуренция его собственному альманаху, и вышел из дела; c 1808 по 1815 год газета выходила под названием «Французский эпикуреец, или Обеды “Нового погребка”» уже без участия Гримо.
Наиболее интересные «гастрономические» тексты Гримо (а также фрагменты из «Газеты гурманов и красавиц») были перепечатаны в сборнике «Французский гастроном» (1828)84, где много лестных ссылок на Гримо, а фразы из его альманаха (например, «в гастрономии, как и в сладострастии, у каждого возраста свои наслаждения») использованы в качестве эпиграфов. Помимо перепечаток в книгу 1828 года включены и оригинальные «гастрономические тексты», написанные по образцу «Альманаха Гурманов» (в ней, в частности, есть разделы «Год Гурмана» и «Гастрономическая топография Франции»).
Четырьмя годами раньше плодовитый литератор Орас Рессон (1798–1854), соавтор и приятель Бальзака, комплилятор и составитель всевозможных бытовых «кодексов» (кодексов разговора и туалета, супружеского и охотничьего), в соавторстве с Леоном Тьессе стал выпускать «Новый Альманах Гурманов, призванный руководствовать любителями вкусно поесть, сочинение А.Б. де Перигора85», с подзаголовком «Посвящается желудку», с фронтисписом «Вдохновение Гурмана» и с приложением гастрономической карты Франции86. С 1824 по 1826 год вышло три тома (последний сочинял один Тьессе; Рессон устранился, так как поверил слуху, что в гурманскую литературу хочет вернуться сам Гримо). Впрочем, тот же Рессон в 1827 году уже самостоятельно выпустил «Гурманский кодекс, полный учебник гастрономии, содержащий законы искусства жить в свете»87, который затем многократно переиздавал; его шестое издание он включил в книгу 1830 года «Безотменный альманах гурманов, содержащий гурманский кодекс, правила его применения и размышления о трансцендентной гастрономии»88. Рессон многому научился у Гримо – и идее кодификации бытовой жизни (для Рессона, впрочем, кодекс – это всего лишь удобная литературная форма), и идее параллелизма гастрономической сферы и сферы политической. «Гурманский кодекс» начинается со слов: «Среди постоянных потрясений, какие переживает наша цивилизация, одна сила взросла, окрепла и стала выше прочих: Гастрономия дружит с аристократами, заключает союз с республиками, поддерживает конституционные государства и царит надо всем миром!». О форме и говорить не приходится: «Безотменный альманах гурманов», подобно альманаху 1803 года, начинается с календаря, где продукты расписаны по месяцам.
Прошло четыре десятка лет, и уже совсем в другую эпоху, при Второй империи, cвой «Альманах гурманов» выпускает в 1862 году Шарль Монселе (1825–1888), пятью годами раньше включивший в книгу «Покрытые забвением и облитые презрением: литераторы конца XVIII века»89 подробный биографический очерк о Гримо, в котором правдивые сведения перемешаны с легендарными, но который гораздо более достоверен, чем полный самых нелепых выдумок аналогичный очерк Поля Лакруа90, а главное, проникнут искренней симпатией к герою. Не случайно свой «Альманах» 1862 года Монселе посвятил памяти Гримо де Ла Реньера. В 1904 году появился «Альманах Гурманов», который его составитель охарактеризовал на титульном листе как «основанный в 1803 году Гримо де Ла Реньером, продолженный под руководством Франсуа-Гийома Дюма». Наконец, память о Гримо и его альманахе не умерла даже в ХХ веке: с середины 1950-х годов до 1993 года литератор Робер Куртин (1910–1998) публиковал в газете «Монд» гастрономические хроники под псевдонимом Ла Реньер (и рядовые современные французы, слыша эту фамилию, вспоминают чаще журналиста из «Монда», чем автора «Учебника для Амфитрионов»). До сих пор, желая польстить какому-нибудь «кулинарному писателю», которых в нынешней Франции немало, особенно продвинутые журналисты именуют его «современным Гримо де Ла Реньером».
Мы назвали авторов, ориентировавшихся на «Альманах Гурманов» явно и открыто, но был и такой автор, который спустя четверть века после выхода первого тома этого альманаха выпустил книгу на сходную тему, где имя Гримо не названо ни разу, хотя текст ее, по всеобщему убеждению, многим обязан «Альманаху Гурманов» и содержанием, и тоном; этот автор – Жан-Антельм Брийа-Саварен (1755–1826), а книга его, вышедшая в конце 1825 года, называется «Физиология вкуса»91. По остроумному замечанию Шарля Монселе, Брийа-Саварен выступил по отношению к Гримо, как Америго Веспуччи по отношению к Колумбу: открыл Америку (читай: гурманскую литературу) один, а слава досталась другому. В самом деле, число людей, если не читавших «Физиологию вкуса», то, по крайней мере, слышавших о ней, существенно превышает число людей, осведомленных о существовании «Альманаха Гурманов», и это ничуть не удивительно: за время, прошедшее с момента ее первого издания, «Физиология вкуса» была переиздана больше полусотни раз92.
Брийа-Саварен не в меньшей степени, чем Гримо де Ла Реньер, сформирован культурой XVIII века, однако он оказался больше востребован потомками. Причин тому несколько. Во-первых, Брийа-Саварен по-другому строит свои отношения с читателем: он не законодатель-диктатор, как Гримо, а кабинетный ученый-педант (в книге он именует себя исключительно «профессором») и услужливый помощник, охотно подсказывающий едокам выход из сложных ситуаций. Во-вторых, если Гримо использовал старомодный жанр альманаха, то Брийа-Саварен употребил в названии книги слово «физиология», которому была суждена во французской словесности бурная жизнь и громкая слава93. Больше того, он придал разговорам о гастрономии статус науки – но науки необременительной и развлекательной; читая Брийа-Саварена, буржуа могли не слишком утомляться, но при этом расти в собственных глазах94. Буржуа это оценили. Не случайно Гюстав Флобер включил в свой компендиум буржуазной мудрости, справедливо названный «Словарем прописных истин», цитату из «Физиологии вкуса»: «СЫР. Процитировать Брийа-Саварена: “Десерт без сыра – все равно что красавица без глаза”». Буржуа цитировали «Физиологию вкуса», зато Бодлер, ненавидевший буржуазный дух во всех его проявлениях, назвал ее автора «безвкусной булкой, которая плоха уже тем, что служит дуракам поводом для глупой и пустой болтовни»95.
Как бы там ни было, Брийа-Саварен заслонил Гримо де Ла Реньера в сознании потомков, а между тем Гримо достоин лучшей участи – в чем, как мы надеемся, убедится каждый читатель нашего сборника.
О русском издании Гримо де Ла Реньера
Первый том «Альманаха Гурманов» – по всеобщему признанию, наиболее удачный – напечатан в нашем издании полностью; все остальные тома печатаются с сокращениями. Сокращения внутри разделов отмечены знаком […], сокращения целых разделов не отмечены никак. Опущены разделы, содержащие повторы уже сказанного в предыдущих томах либо рекламу определенных товаров или магазинов (о том, каким образом Гримо выполнял эту задачу, исчерпывающе свидетельствует АГ–1). Из «Учебника для Амфитрионов» переведены вступительные, «теоретические» главы всех трех частей, а также наиболее важные главы из третьей части, посвященной «Основам гурманской учтивости». Из этой части в перевод не вошли главы «О приеме гостей и их размещении за столом», «О прислуге», «О винах», «О застольных беседах», «О гастрономических визитах», поскольку их содержание в очень большой мере отражено в соответствующих главах «Альманаха Гурманов», вошедших в наше издание. Из первой и второй части «Учебника для Амфитрионов» не вошли в перевод главы, описывающие способы разрезания того или иного вида мяса, рыбы или птицы либо содержащие конкретные образцы различных меню.
Гримо, как уже было сказано, охотно перечисляет названия блюд, но далеко не всегда разъясняет, как они готовятся. Выполнить это за него – дело для современного комментатора непосильное, да, пожалуй, и ненужное. Я поясняю состав некоторых кушаний лишь в самых необходимых случаях, да и то в общем виде, без подробностей, за которыми следует обращаться к кулинарным книгам XVIII века, прежде всего к тому «Карманному словарю» 1767 года, на который Гримо, по нашему предположению, ориентировался, когда составлял свои перечни яств.
Наиболее любопытные фрагменты из «Альманаха Гурманов» (АГ) и «Учебника для Амфитрионов» (УА), не вошедшие в основной текст, цитируются в примечаниях; в этих случаях в скобках даны отсылки с указанием книги, тома (в случае если цитируется «Альманах Гурманов») и страницы.
Примечания самого Гримо де Ла Реньера набраны курсивом и сопровождаются указанием на авторство, помещенным в скобках: ГдЛР. Мои примечания набраны прямым шрифтом.
При переводе любой книги о еде, тем более еде двухсотлетней давности, самую большую трудность представляют термины. Подыскивая для них эквиваленты, я исходила прежде всего из того, что Гримо создавал не руководство для поваров, а литературный текст, и потому стремилась по возможности избегать галлицизмов, которые были бы уместны в поваренной книге и которые нередко встречаются в современных переводах кулинарной литературы. Поэтому вместо «антре» и «антреме» я пишу «вводное блюдо» и «преддесертное блюдо» (ибо таковы были места этих блюд в порядке французского обеда), вместо «матлот» – «матроска», вместо «соус пуаврад» – «перечный соус», а вместо «кур-бульон» (встречается в переводных книгах и такой термин, хотя к курам этот «бульон» никакого отношения не имеет, ибо в нем варят рыбу) – «пряный отвар». Конечно, вовсе обойтись без галлицизмов в книге о французской кухне невозможно, и потому фрикасе и гарниры, бисквиты и филеи в ней присутствуют, но я старалась ограничиться теми галлицизмами, которые вошли в русский язык уже давно, «прижились» в нем и не воспринимаются как чужеродные вкрапления. Я хотела избегнуть того эффекта, который вызывают в русской прозе французские слова, переданные кириллицей; дело в том, что такую передачу французских слов традиционно используют, когда хотят изобразить человека, скверно говорящего по-французски1, прежде всего лакея. Напомню сцену из «Анны Карениной» – обед Облонского и Левина: