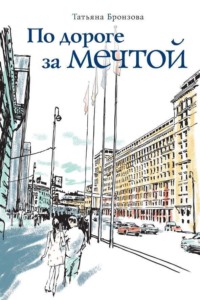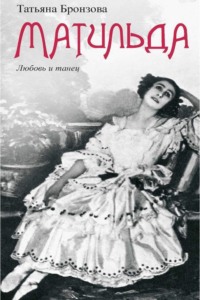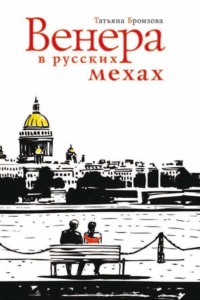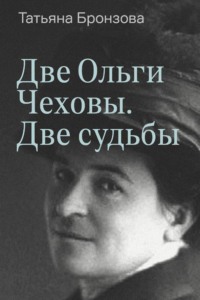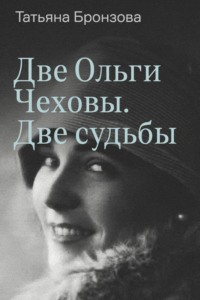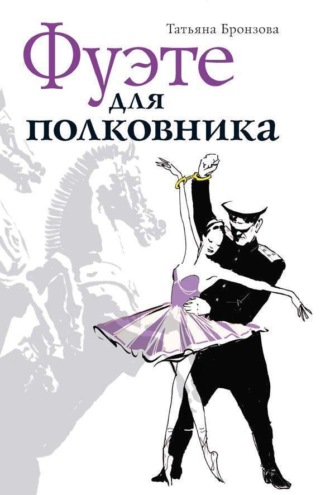
Полная версия
Фуэте для полковника
– А зачем он едет в Париж? Было бы лучше подстраховаться и, на всякий случай, заменить его другим актёром.
– Правильно мыслишь. Мы так и хотели сделать, но ничего из этого не вышло, – генерал развёл руками. – Французский импресарио твёрдо стоит на своём. В Лондоне юноша произвёл сенсацию, и теперь его обязательно хотят видеть в Париже. Пришлось уступить! Организуй там всё так, чтобы твои люди с этого парня глаз не спускали!
Генерал сдвинул очки на кончик носа и посмотрел на полковника в упор своими колючими серыми глазами:
– Смотри! Если хоть один человек останется на Западе, тебе не сносить головы! Никакая наша дружба не поможет!
Полковник Кудряшов хорошо понимал, что это означало. Крепко сжимая в руках полученную от генерала папку, он молча покинул кабинет, тихо прикрыв за собой массивную дубовую дверь.
Глава 2
Леночка Савельева была счастлива. Неожиданно для себя, она попала в списки гастрольной поездки во Францию. Побывать в этой волшебной стране всегда было её мечтой, и теперь эта мечта превращается в реальность.
После окончания балетного училища с её курса в Большой театр взяли всего четверых выпускников. Савельева попала в это число. Может, потому, что она была москвичкой и перед администрацией не вставал вопрос о её прописке, а может, действительно именно её талант привлёк внимание главного балетмейстера, но, так или иначе, девушка была зачислена в труппу кордебалета. Подругу Леночки по училищу Иру Пушкареву распределили в Театр оперы и балета имени Станиславского и Немировича-Данченко. Обе девушки радовались, что остались в Москве, и хоть работать им приходилось в разных театрах, но они могли довольно часто видеться. Ведь театры располагались буквально в пяти минутах ходьбы друг от друга!
Шёл к концу уже второй сезон работы в Большом, но Леночка пока выдвинулась только в корифейки. Так называют тех, кто стоит в начале кордебалетного ряда, чтобы помочь остальным держать строй и синхронность в движениях. А между тем подруга уже выходила на сцену в партиях на четверых, троих, а в одном из балетов даже на двух танцовщиц, а это означало, что она прочно заняла место в труппе как «вторая солистка» и ожидала, что в следующем сезоне её переведут в разряд «первых». Эти уже строго танцевали по две, как бы соревнуясь друг с другом в одинаковых па. Следующим разрядом по служебной лестнице, к которой стремились танцовщицы, была «солистка», исполняющая в балетах в основном партии подруг главных героинь, а вот сами главные партии доставались уже «балеринам». Обычно в театре «балерин» было не более шести-семи человек.
– Вот увидишь, я буду не я, если через пару сезонов не получу главную роль, – говорила Ирина.
– Счастливая, – завидовала ей Леночка. – А я даже никого пригласить на спектакль не могу. Ведь, пока знакомые будут искать меня среди кордебалета, представление закончится.
– Зато ты танцуешь в лучшем театре страны, – отвечала ей Ира. – Выйти на сцену Большого театра мечтает каждая!
– Но и добиться чего-то в этом театре чрезвычайно трудно. Такие интриги! Меня всего-то выдвинули в корифейки, так на следующий же день я в своих пуантах нашла иголку. Хорошо, нас в училище приучили проверять туфли, прежде чем их надеть.
– А что ты думаешь? В нашем театре по-другому? – горячо воскликнула Ира. – Везде одинаково. У нас знаешь какую гадость проделали с одной солисткой? Запихали ей булавки прямо в пачку вокруг талии, так она еле дотанцевала свою вариацию. Разделась – вся исколота и в крови!
– Какая подлость! – возмутилась Леночка.
– Так вот, чтобы с тобой не проделывали подобных «подлостей», надо искать сильного покровителя! Он тебя и защитит, и продвинуться поможет, а то так и будешь колыхаться в общей массе у воды.
Выражение «у воды» означало танцевать в кордебалете на заднем плане. Там во многих спектаклях на кулисе были нарисованы река или озеро. Кто и когда первым дал это определение танцовщицам-неудачницам, неизвестно, но только говорилось так ещё с восемнадцатого века и передавалось из поколения в поколение.
– Ну, знаешь! Это ты уже с перебором. У воды я никогда не танцевала. С самого начала меня ставят в первый ряд.
– Кто бы сомневался! Но тебе ни в какой ряд не надо. Тебе срочно нужен покровитель! И не обижайся!
– Я и не обижаюсь, – вздохнула Леночка. – Только у меня даже на примете никого нет. Вот ты счастливая. Тебе повезло!
И правда. У самой-то Ирины такой покровитель появился сразу же после окончания училища. И не какой-нибудь там, а помощник секретаря Московского горкома партии, возглавляющий отдел по культуре! Дирекция театра его ух как боялась. Потому-то карьера Пушкаревой и шла в гору довольно быстро.
– Всё потому, что ты слишком щепетильна, – продолжала вразумлять подругу Ирина. – Надо на всё смотреть проще.
– Ну не могу я встречаться с тем, кого не люблю. Я же тебе рассказывала, как меня обхаживает балетмейстер Серов. Но я даже представить не могу, чтобы с ним поцеловаться, а уж о чём-то другом и говорить нечего!
– Ну и дура! Эту твою «любовь» можно до скончания века ждать! А Серов, между прочим, очень талантливый и влиятельный человек. Он в нашем театре два балета поставил.
– Но ему уже пятьдесят восемь лет!
– Ну и что? Не семьдесят же пять!
– Но он женат!
– Это совсем не довод, чтобы лишать себя карьеры. Или ты не хочешь стать балериной?!
– Конечно, хочу. Что за вопрос?!
– Ну, так и учись, как другие делают: находят себе влиятельных генералов и живут припеваючи. Бери пример хоть с Лепешинской. С самого начала карьеры у неё был генерал НКВД. Неудивительно, что она сразу имела в театре всё. Думаешь, она этого генерала любила? Черта с два! Как только его арестовали, она тут же себе другого влиятельного генерала нашла. И теперь снова в полном порядке, – продолжала наставлять подругу Ирина.
– Ну, ты скажешь! Лепешинская! У неё Сталинских, Ленинских и Государственных премий знаешь сколько? Вся грудь в орденах! Она в нашем театре большой авторитет! Её все боятся.
– Вот потому у неё и премии, и боятся её, что у неё всегда сильные люди за спиной. А что ты думаешь, ты не так талантлива, как она? И, кроме того, ты красива. У тебя ноги длинные, подъём идеальный, руки – одно загляденье, – нахваливала подругу Ирина. – А у неё? Да, если бы не эти генералы, танцевала бы она со своей фигурой до самой пенсии у воды!
– Нет, нет. Ты к ней несправедлива. Она очень даже хорошая танцовщица, и техника у неё высокая, – бросилась защищать балерину Леночка.
– Да ладно, бог с ней! – отмахнулась Ирина. – Я ведь это только к тому, чтобы ты взялась за ум и нашла себе влиятельного покровителя. О карьере думай!
– А как же Уланова? Ведь у неё за спиной нет мужа-генерала?
– Уланова не в счёт. Она гений! – отрезала подруга.
Леночка, конечно, страстно мечтала стать балериной. Ей так хотелось, чтобы весь зал смотрел только на неё, восторженно следил, затаив дыхание, за её актерской игрой, выраженной в танце, а потом неистово рукоплескал, крича «браво!».
«Наверно, надо послушаться Иришку и переступить черту!» – думала девушка, но момент, когда надо эту черту переступить, она всё оттягивала и оттягивала.
Как-то так получилось, что в отличие от своих подруг Леночка ещё никогда не была влюблена. Ни один из тех юношей, кто пытался за ней ухаживать, не задевал её сердца. Мама успокаивала:
– Ты вся в меня. Я ведь тоже долго не могла влюбиться. А как столкнулась с твоим папой в консерватории, так сразу сердечко ёкнуло. Такая тёплая волна по всему телу прошлась! Подожди. И твоё время придет!
Леночке очень хотелось верить в то, что однажды и она увидит такого человека, от которого её сердечко ёкнет. Только когда же это произойдёт? Ведь ей уже девятнадцать! Где же он бродит, этот человек? Почему никак не зайдёт на ту территорию, где ходит она?
– А ты своего покровителя тоже не любишь? – спросила Леночка подругу. – Ты с ним только ради карьеры?
– Ну почему же. Он мне по-своему нравится, а любовь эта ещё никому ничего хорошего не принесла. Помнишь нашу Аню Туркалову?
– Конечно.
– Ну, и что дала ей любовь? Вышла замуж за своего студента-архитектора, а его распределили в тьму-таракань, где и балета-то нет! Кончилось тем, что он строит новый город, она преподает строителям бальные танцы и при этом пишет, что счастлива! Любовь!!! Ты такую судьбу хочешь?
– Нет. Не хочу. Я без балета жить не смогу.
* * *Каждое утро Савельева ходила на экзерсис в класс Анастасьевой Галины Львовны. Ежедневная разминка всегда держала её в форме, мастерство оттачивалось, только применить его было негде. Анастасьева считала, что Савельева делает большие успехи. Девушка была трудолюбива, упорна, очень музыкальна, талантлива и хороша собой. Галина Львовна подготовила с ней и танцовщиком Александровым па-де-де из «Лебединого озера». Время было тяжёлое, зарплата в театре маленькая, и многие артисты участвовали в сборных концертах, подрабатывая, как говорится, «на хлеб насущный». Деньги были небольшие, но всё-таки прибавка к зарплате получалась существенная. Участвовала в таких концертах и Савельева. И дело было не только в деньгах. Эти выступления были для Леночки ещё и огромной отдушиной. Ведь именно там она выходила на сцену, ощущая себя полноценной актрисой. Балериной! И, когда зал дружно разражался шквалом оваций во время её исполнения классических тридцати двух фуэте или высоких прыжков, которые ей легко удавались, Леночка была счастлива и буквально летала по сцене, смело кидаясь в руки своему партнёру, на высокую поддержку.
Галина Львовна не раз заявляла в театре о том, чтобы обратили внимание на эту талантливую и очень работящую девушку, но балетмейстеры только отмахивались.
– У нас все талантливые. С какой стати надо отодвинуть других и дать ей зелёный свет? Она что? Дочка Хрущёва?
У них были свои протеже. А эта Савельева вела себя больно независимо. Пока хватит с неё и того, что она стала корифейкой.
* * *Когда в середине марта вывесили списки актёров, занятых в гастрольной поездке, Леночка буквально летала от счастья. Это была её первая поездка за границу и сразу – Париж!
Вся балетная труппа столпилась около доски объявлений, изучая фамилии счастливчиков. Актёры были в таком возбуждении, какого не бывает даже при премьерах. Те, кто не увидел себя в списках, возмущались несправедливостью, ощущая себя изгоями, и в закулисных разговорах между собой обливали грязью тех, кто ехал. Те же, кто попал в список, громко радовались, чувствуя себя избранными, обнимались, как близкие люди, хотя таковыми никогда не являлись, и уже начинали отсчитывать дни до вылета во Францию.
Но до этого дня отлёта надо было пройти много разных кабинетов, прослушать бесконечные наставления, подписать множество бумаг и, прежде всего, заполнить анкету в несколько листов. В этой анкете каждый должен был правдиво написать все данные не только о себе, но и обо всех своих родных, как ближайших, так и дальних. А вопросы были один другого заковыристее: «привлекался ли кто из родственников к суду», «был ли репрессирован», «находился ли в плену во время войны», «жил ли на территории, оккупированной фашистами» и так далее на четырёх страницах убористым шрифтом.
Лена Савельева легко заполнила анкету. Из всех родственников после войны в живых остались только они с мамой.
Её отец Петр Аркадьевич Савельев, скрипач, очень талантливый музыкант, ушел на фронт осенью сорок первого года и вскоре погиб. Леночка помнила его урывками, ведь ей было тогда чуть больше трёх лет. А может, и вообще не помнила и его образ сложился только из рассказов матери да фотографий, оставшихся в семейном альбоме. Один снимок, который родители сделали перед отправкой отца на фронт, всегда висел в рамочке над маминой кроватью. Оба они были очень серьёзные и смотрели прямо в объектив камеры.
Мама, тоже музыкант, работала концертмейстером в Театре оперетты. Окончила Московскую консерваторию по классу рояля. Именно там она когда-то и столкнулась в коридоре со своим будущим мужем. Ко времени их знакомства Пётр Савельев был полным сиротой. Братьев и сестёр у него не было, его мать умерла при родах, а отец, который так и не женился, скончался от обширного инфаркта, когда сын учился на первом курсе. Ни о каких других родственниках своего отца Леночка никогда не слышала.
Дедушка и бабушка со стороны мамы были до войны ведущими актерами балетной труппы Московского театра оперетты. Им не было равных в исполнении зажигательного венгерского «чардаша» и цыганских плясок. Они всегда участвовали в сборных правительственных концертах, и оба носили звание заслуженных артистов. Буквально перед самой войной театр послал ходатайство о присвоении им звания народных артистов, но получить его они так и не успели. В грузовик, на котором актеры ехали с концертной бригадой на фронт, попала бомба. В живых не осталось никого. Внучка помнила их смутно. Мама была единственной дочерью у своих родителей, а потому и с этой стороны никаких тёть и дядь у Леночки не было.
Быстро заполнив анкету, Савельева отправилась сдавать её в партком театра. Парторг внимательно прочитал все заполненные листочки и тяжело вздохнул.
– Это что же, у тебя, кроме мамы, никого из родных больше и нет?
– Нет.
– Да! Многих людей война унесла. А ты, значит, с мамой не эвакуировалась?
– Мы в Москве остались. Ведь не вся труппа уехала. Здесь тоже спектакли играли.
– Бабушка с дедушкой остались с вами?
– Да. Только они погибли во время поездки на фронт с концертной бригадой.
– А мама на фронт не ездила?
– Нет. Я ещё совсем маленькая была, поэтому её на передовую не посылали, – объяснила Леночка. – Я всегда с мамой в театре находилась, когда она работала. Даже реквизиторам во время спектакля помогала, – гордо добавила она.
– Молодцом! – улыбнулся парторг. – А дедушка со стороны отца?
– Аркадий Игнатьевич Савельев был врачом. Но я его никогда не видела. Он умер ещё до того, как мама с папой познакомились.
– А бабушка со стороны отца?
– Она умерла при родах моего папы. Дедушка больше так и не женился.
– Бывает, – произнес парторг. – Вот только почему-то номер свидетельства о смерти своего дедушки Аркадия Игнатьевича Савельева ты указываешь, а вот бабушки нет. Только дата.
– Просто у нас такого документа дома нет. Вероятно, потому, что во время Гражданской войны у дедушки многие документы сгорели во время пожара и он все бумаги восстанавливал заново, а вот о смерти жены, как видно, не стал. Зачем? И, действительно, вы первый, кому это понадобилось.
– Это не мне надо, а так положено, – поправил Леночку парторг. – Ну, ладно. Надеюсь, это уже действительно не имеет значения. Припиши только рядом с датой смерти Валентины Николаевны Савельевой: «Умерла при родах сына в такой-то больнице».
– А я не знаю, в какой больнице, – растерялась Леночка.
– Как не знаешь? – рассмеялся парторг. – В той, где родила, там и скончалась.
– И как я сама не догадалась?! – удивилась девушка и своим аккуратным крупным почерком вывела рядом с датой смерти бабушки то, что значилось в графе о рождении отца: «Родильное отделение городской больницы Великих Лук».
– Ну вот, – довольный тем, что помог девушке правильно заполнить анкету, произнес парторг. – Теперь у тебя всё в порядке. Осталось только характеристику от комитета комсомола принести и получить поручительство за тебя двоих членов партии.
– Простите, а в чём должны поручиться за меня члены партии? – недоумённо спросила Леночка.
– В том, что ты не уронишь честь советского человека за границей.
– Конечно, не уроню, – горячо сказала девушка.
– Вот и хорошо. Я тебе верю, – улыбнулся ей парторг. – Но это должно быть зафиксировано на бумаге твоими товарищами. А если что-то у тебя пойдёт не так, что я, конечно, совершенно исключаю, то за твои неправомерные советскому человеку действия будут отвечать твои поручители. Так что ты уж постарайся! Не подведи людей!
– Но у меня нет товарищей среди членов партии. Мои друзья сплошь комсомольцы, – растерялась Леночка. – У кого же мне взять эти поручительства? – А может, вы дадите мне одно? – глядя на парторга своими невинными зелёными глазами, спросила девушка. – Я вас не подведу! Честное комсомольское!
– Ладно, уговорила, – вдруг согласился Яковлев. – Дам. А второе возьми у Кузнецова Павла Егоровича. Скажи, что я посоветовал.
– Огромное спасибо, – обрадовалась Леночка.
Заслуженный артист Кузнецов Павел Егорович, исполняющий в театре партии миманса, был замом Яковлева и, естественно, увидев первую рекомендацию, подписанную самим парторгом, не задумываясь, поставил свою закорючку.
* * *– А я сегодня уже анкету для выезда сдала, – похвасталась Леночка маме за вечерним чаем. – Представляешь, даже партийные рекомендации получила.
– Это зачем? – удивилась Вера Константиновна.
– Так положено, – важно ответила дочь. – Надо, чтобы за каждого отъезжающего кто-то из членов партии поручился.
– Понятно.
– А некоторые до сих пор ещё заполняют все эти листки, – рассмеялась Леночка. – У Кати Новиковой, например, целых шесть родных теток! Представляешь, сколько информации несчастная Новикова должна написать о них, их мужьях и многочисленных двоюродных сёстрах и братьях? Тут не один день понадобится!
– Это что же? – удивилась Вера Константиновна. – Даже о них надо докладывать?
– А как же! Вдруг кто-нибудь из них сидит или в секретной организации работает. Хуже всего, если во время войны в оккупации был или в плену. В этой анкете очень подробно обо всех родственниках расспрашивают, – сказала Леночка и, сделав глоток чая, добавила: – Я, мамочка, сегодня впервые подумала, как хорошо, что нас с тобой только двое!
– Это очень плохо, доченька, что нас с тобой двое, – грустно ответила Вера Константиновна.
– Конечно, плохо, – тут же согласилась дочь. – Но когда заполняешь такие анкеты, это невольно приходит на ум. У Зайцевой, например, родной дядя уехал в двадцатом году за рубеж и сейчас живёт в Австралии. Все просто уверены, что её из-за этого никогда никуда не выпустят.
– Так, может, ей лучше не надо и совсем о нём упоминать? – осторожно спросила мать.
– Как же она может не написать, если в анкете есть такой вопрос: «Проживает ли кто из ваших родственников за границей?», – удивилась Леночка. – Если Зайцева напишет «Нет», а потом выяснится, что она соврала, ведь её могут даже арестовать.
– Арестовать?
– Ну конечно! Нам когда анкеты выдавали, предупредили, что указанные неверные сведения могут повлечь за собой серьёзную судебную ответственность. Ведь это обман государства!
– Тогда конечно, – согласилась мать. – Государство обманывать нельзя!
* * *В эту ночь Вера Константиновна долго не могла уснуть. Она в ужасе думала о том, что могло бы произойти, если бы Леночка узнала правду о своём отце. Ведь её девочка такая честная. Уж точно не стала бы скрываться, врать! Всё выложила бы, как есть, в этой анкете. Загубила бы себе жизнь. «Хорошо, что я так ничего ей и не рассказала», – думала Вера Константиновна, беспокойно ворочаясь в постели. Всегда чувствовала, что не надо этого делать. Она одна должна хранить эту тайну в себе и умереть вместе с ней. Никто никогда не узнает, что её муж был совсем даже не Савельев, а принадлежал древнему роду князей Белозерских.
Пётр рассказал ей о себе ещё перед свадьбой. Как сделал предложение, так и рассказал.
– Теперь ты знаешь всё, – сказал он. – Решай, выходить тебе за меня или нет.
Конечно, она вышла. Ведь она так любила его! А тайна, которая связала их с того дня на всю жизнь, заключалась в том, что жил Пётр по поддельным документам. Произошло это так.
В апреле семнадцатого года в поместье князя Белозерского неожиданно объявились солдаты. Ворвавшись в дом с устрашающими криками, они согнали всех, кто там был, в малую столовую, приставили к двери часового и, пока все в страхе терялись в догадках, что их ждёт, беспрепятственно бродили по помещениям и прихватывали себе что кому понравится в княжеских покоях. Прошло несколько часов, прежде чем к пленникам зашел солдат, видно, взявший на себя командование в этой непонятно каким образом сформированной бригаде. Отличался от других он только каракулевой папахой, устрашающим наганом да громким голосом, которым отдавал свои приказы.
– Слуги могут быть свободны, – объявил он. – Князю и всем его родным оставаться на месте!
Насмерть перепуганный персонал стал быстро покидать комнату. Семейный доктор Аркадий Игнатьевич Савельев прижал к себе шестилетнего сына князя и двинулся на выход.
– Ты кто такой? – остановил его командир, подозрительно глядя на более чем приличный костюм мужчины.
– Я земский врач. А это мой сын Пётр, – врал Аркадий Игнатьевич. – Я оказался здесь из-за болезни одного из слуг князя. А вот сына мне пришлось взять с собой. Не с кем оставить. Жена умерла от чахотки месяц назад.
– Ладно, можешь ехать домой, – сочувственно проговорил начальник и, повернувшись к часовому у дверей, произнёс: – Пропустить!
Маленький Петя невольно оглянулся. Отец одобрительно слегка кивнул ему головой, мать приподняла руку, как бы прощаясь, и доктор, крепко держа мальчика за плечо, вышел. Больше Пётр никогда не видел своих родителей.
Князь Белозерский, княгиня и их старший сын Борис были в тот же день расстреляны во дворе солдатами. А кем были эти солдаты? Кому служили? Большевикам? Меньшевикам? А может, это были просто бежавшие с фронта дезертиры? Почему они решили уничтожить семью князей Белозерских? Какая ненависть накопилась в них против дворянства? Аркадий Игнатьевич так и не понял. Наступило страшное время. Время полного беззакония и стихийного безрассудства. Сила была у тех, кто держал в руках оружие. Убивали в домах, убивали на улицах! Грабили! Народ делал Революцию!
А в октябре, когда уже после победы большевиков доктору Савельеву стало понятно, что людям княжеского рода в этой стране вообще не выжить, он обратился за помощью к хорошему другу, главному врачу больницы в Великих Луках. И тот, войдя в положение, выслал ему липовую справку, подтверждающую рождение 8 декабря 1911 года мальчика у мещанки Валентины Николаевны Савельевой, скончавшейся во время родов. В графе «отец» было записано: Аркадий Игнатьевич Савельев. Эта справка, выданная якобы взамен сгоревших документов, дала возможность доктору узаконить своё отцовство и вдовство. Аркадий Игнатьевич действительно стал мальчику заботливым отцом и полюбил его как родного. Пётр относился к нему так же. Образы же настоящих родителей со временем постепенно почти стёрлись из его памяти. Лишь изредка он вдруг совершенно ясно видел свою мать. Ему даже казалось, что он слышит шелест её платья, ощущает запах её духов. Совсем смутно ещё помнился отец, а вот образ старшего брата исчез совершенно. Он не мог вспомнить даже его лица.
– Это совершенно нормально, – успокаивал его Аркадий Игнатьевич. – Виделись вы не часто. Ведь князь Борис учился в московском военном училище и в имение приезжал только на каникулы.
– Значит, когда солдаты ворвались к нам в дом, у моего брата были каникулы?
– Нет. Просто в Москве было неспокойно. Гимназию закрыли.
– Выходит, если бы её не закрыли, брат был бы сейчас жив?
– Возможно. Что уж теперь.
Вот так и получилось, что урождённый князь Пётр Владимирович Белозерский стал носить чужое отчество и чужую фамилию. Проще сказать, жил по поддельным документам. Так разве можно было об этом где-либо говорить? Конечно, нет!
Вера Константиновна тяжело вздыхала, вспоминая мужа. Как же мало успела она насладиться своим женским счастьем. Всего-то четыре года прожили они вместе! Счастливых четыре года. И вдруг ранним летним утром сорок первого всё в одночасье рухнуло. Война! Вначале всем казалось, что легендарная Красная армия быстро остановит противника, но с каждым днём вести с фронта приходили всё тревожнее и тревожнее, и вот, уже в сентябре месяце, Пётр получил повестку.
– Не понимаю, – разволновалась молодая жена. – Почему тебя призывают на фронт? Ведь ты, кроме скрипки, в своих руках никогда ничего не держал. Разве ты умеешь стрелять?
– Пока нет, – отвечал Пётр. – Но ты не беспокойся, Верочка. Этому быстро учат.
– Военных в стране, что ли, мало? У нас же огромная армия, зачем музыкантов-то забирать? – упрямо продолжала она. – Надо куда-то сходить! Надо добиться отсрочки.
– Мне не нравится этот разговор! – произнёс Пётр. – Ты хочешь, чтобы другие воевали, а я дома отсиживался?
– Не отсиживался, а играл с оркестром! Как же они без тебя?
– Не только без меня. У нас из оркестра всю молодёжь призвали.
– И кто же там остался? – удивилась Вера.
– Женский состав и те, кому за сорок.
Бедный, бедный Пётр. Он погиб в первом же бою. Разве мог он выжить в той кровавой бойне? Будь проклята эта война!