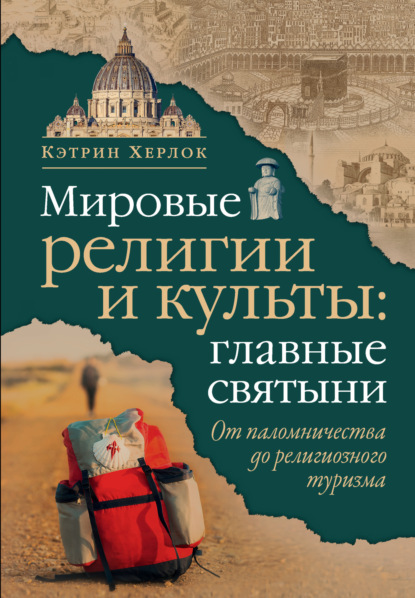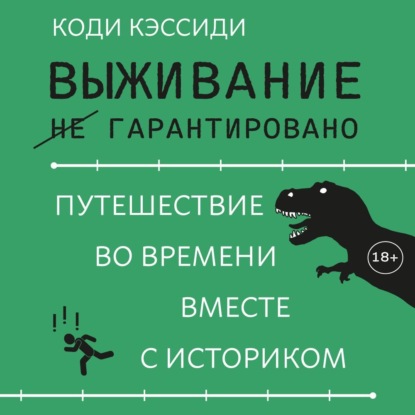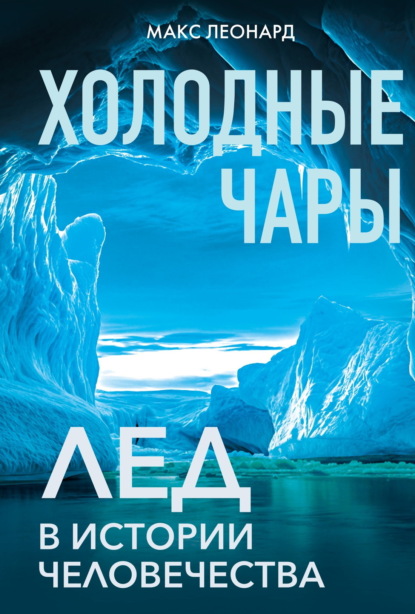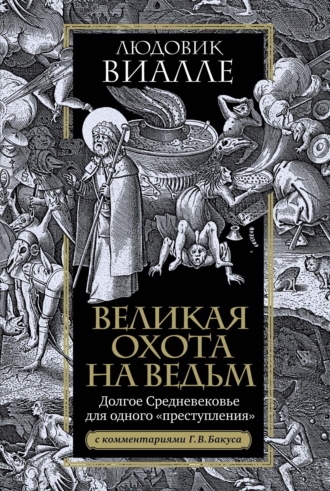
Полная версия
Великая охота на ведьм. Долгое Средневековье для одного «преступления»
В 1190-е теолог Алан Лилльский на юге Франции написал сочинение Сontra hereticos («Против еретиков», то есть «О католической вере против еретиков»), где сначала коснулся ереси как таковой, упоминая вальденсов, иудеев и мусульман. В его труде, написанном, возможно, для пасторского служения, где в первой части всего один раз упоминаются окситанские «манихеи» (когда речь заходит о браке), говорится о всеобъемлющем подавлении ереси, а современные ему движения рассматриваются как новые проявления более древнего инакомыслия. Вопрос о licentia praedicandi отбросил вальденсов в поле отклонения от нормы, а в это же время Франциск Ассизский и его последователи спасали свою голову, встав под крыло Церкви, то есть создав религиозный орден, получивший в 1223 году свой устав[13].
На юге Франции крестовый поход против альбигойцев, начатый в 1209 году, сопровождался повышенной пастырской активностью, учеными спорами и репрессиями, которые с 1230-х годов проводила инквизиция. Сегодня историкам ясно, что верования еретиков, сообщаемые источниками XIII века, исходящими из католической церкви, не могут быть спроецированы на период до начала крестового похода. Они являются результатом описания, обобщения и систематизации, сделанной теологами, использовавшими категории и термины, заимствованные у Отцов Церкви (так, например, термин «катары» впервые появляется у блаженного Августина в его труде De heresiеs («О ересях») для изобличения того, что они считали извращенной картиной их мира[14].
В начале XIII века, после состоявшегося в 1215 году IV латеранского собора, где были приняты важнейшие решения, папство достигло своего апогея, а институт церкви – своей зрелости: отныне все будет не так, как раньше.
Мятежник означает еретикЗа несколько веков, пока шла христианизация, очень важным в жизни общества стало возрастание роли духовенства, то есть объединения, выступающего посредником между Богом и людьми, единственного обладателя полномочия совершать таинства, что, конечно, приносило ему авторитет и привилегии. Начиная с XII века среди мирян в кругах образованной городской элиты все чаще ощущалось возрастающее желание активнее участвовать в жизни церкви, а некоторые и вовсе стремились напрямую заключить союз с божественным посредством обретения мистического опыта. И это был не столько радикальный вызов клерикальному посредничеству, сколько феномен интериоризации религиозного опыта, неотделимого от возрастающего самосознания и о возникновении понятия личности.
В этой эволюции важную роль сыграли интеллектуальные движения и образование: в основанных в XIII веке университетах тысячи студентов занимались свободными искусствами[15], то есть прежде всего изучением логики Аристотеля. Отныне все больше людей становились приверженцами свободной дискуссии, основанной на рассуждениях. Умножение очагов интеллектуального обмена содействовало распространению идей, что было очень важно тогда, но оно открывало и возможность возникновения ересей. Такое бурление мысли особенно активно способствовало феномену расширения прав и возможностей личности, неизбежным следствием которой становились уход в область духовности и интериоризация. Разумеется, вопрос о повсеместном распространении данного явления не стоит, оно зафиксировано не везде и охватывало далеко не всех. Следует лишь понимать, как важен был этот настоящий «шок» высокого Средневековья, порожденный возможностью интеллектуальных и духовных обменов, с одной стороны, и идеологической упорядоченностью и одержимостью приданием единообразия, характеризующей ментальность элит, – с другой.
Шла ли речь о создании образцового христианского общества под руководством единого главы – Папы – или о возникновении современного государства, усилия власти определялись стремлением к единообразию и неприятием разнообразия. В конечном итоге диалектика единого и множественного должна была оказаться плодотворной; в рассматриваемый же нами момент противоречие сил привело к тому, что Жак Шифоло назвал «интеллектуальными корнями нашей современности».
Относительно четко определение ереси дали только в XIII веке: учение, противоречащее Священному Писанию, доктринальное расхождение с ортодоксальной церковью, открыто и беспрепятственно распространяемое отдельными лицами. Но на деле название «еретик» очень быстро превратилось в эффективное оружие для избавления от неудобных противников. Начиная с Папы Иоанна XXII (1316–1334) в определение ереси стали включать все формы неподчинения или сопротивления церкви; таким образом, за два последних века Средневековья поле ереси превратилось в обширную кладовую противоречий. Лангедокские «катары» – правда, сами себя они так никогда не называли (это название стало популярным в XX веке), – нарекали себя «добрыми христианами», излагая теологию, далекую от христианства. Из-за территориальной близости и упрощения контрпропаганды в церковном дискурсе их часто сближали с вальденсами. Однако вальденсы проповедовали дисциплинарную реформу, не касаясь догмы, что в XV веке не помешало термину «вальденсы» вследствие семантического смещения приобрести значение «колдун»[16]. Иначе говоря, ересь отчасти являлась составляющей мира воображаемого, часто выступая кривым зеркалом – при помощи клириков – любой критики католической церкви; граница же доктринального поля преодолевалась довольно быстро… иногда посредством небольшой поддержки со стороны судей.
Вальденсы считали себя христианами, каковыми они и были. «Под словом “церковь” я подразумеваю собрание людей, имеющих истинную веру и исполняющих ее делами своими и сохраняющих насколько возможно заповеди ее», – заявил вальденский дьякон Раймон де Ла Кот на допросе у епископа Памье Жака Фурнье (будущего Папы Бенедикта XII) примерно между августом 1319-го и концом апреля 1320-го. Но если для Фурнье заблуждение даже относительно одного из постулатов церкви является еретическим, для вальденского диакона «если кто-то заблуждается по части какого-либо положения Писания <…>, он не принадлежит церкви только в части того положения, относительно коего он упорствует в своей ошибке». Кроме того, римская церковь сама может пребывать в заблуждении, однако ее легитимность под вопрос не ставится. В конце Средневековья не существовало никакого особого права, ни списочного, ни исключительного, чтобы на него могли сослаться хранители католической ортодоксии, для которых вера и церковь мыслились только как монолитное единство, не допускавшее никаких отступлений. Под угрозой обвинения в создании «антицеркви», которой, впрочем, у вальденсов, никогда не существовало, в недрах их движения довольно быстро возникли относительные расхождения, в частности, при совершении таинств, которые они признавали основными: крещения, евхаристии и брака.
По выражению инквизитора Бернарда Ги, ставшего известным благодаря роману Умберто Эко «Имя розы»,
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«Пример» (лат.) – короткая история, содержащая в себе простой и понятный для аудитории вывод. Exemplum (мн. ч. – exempla) в средневековой книжной традиции (чаще всего – в сборниках проповедей и сочинениях о колдовстве) использовался как структурный элемент, необходимый для организации повествования. Здесь автор использует это слово как элемент стилизации, перекликающийся с тем материалом, который рассматривается в книге далее.
2
Похожая легенда существовала об останках Джироламо (Иеронима) Савонаролы (упоминается автором ниже), религиозного и политического деятеля Италии из ордена доминиканцев, установившего свою диктатуру во Флоренции (1494–1498). После его падения и казни остались последователи, считавшие Савонаролу мучеником за веру. Одним из последователей «флорентийского пророка» был князь и философ-гуманист Джанфранческо Пико делла Мирандола (он приходился племянником знаменитому гуманисту Джованни Пико делла Мирандола), составивший «Житие Иеронима Савонаролы» (Vita Hyeronimi Savonarolae), содержащее апокрифическую историю о «сердце пророка». Согласно Пико после казни (Савонарола был повешен) тело его сожгли, а останки выбросили в реку Арно, откуда один из последователей выловил нечто круглое, похожее на мяч, – сердце брата Джироламо, которое позднее использовалось при проведении экзорцизма.
3
Один из вариантов перевода названия на русский – «Тайные демоны Европы». В 1993 г. Норман Кон подготовил переработанное издание книги, вышедшей под названием «Тайные демоны Европы: демонизация христиан в средневековом христианстве».
4
Здесь автор фактически принимает позицию Карло Гинзбурга, главного критика Н. Кона, которая наиболее последовательно была выражена в статье «Образ шабаша ведьм и его истоки». За рамками этой отдельно взятой дискуссии в исторической науке говорить о «разочаровании антропологическими и социологическими объяснениями» не приходится – см. например: Toivo R. M. The witch-craze as holocaust: The rise of prosecuting societies // Palgrave advances in witchcraft historiography. New York, 2007. P. 91–94. Исследования Н. Кона положили начало ряду работ, посвященных образу Другого в социальных описательных стратегиях и оказались близки идеям М. Фуко о дискурсах власти (стоит отметить, что Фуко также является объектом критики К. Гинзбурга). Применительно к исследованиям охоты на ведьм главная идея Н. Кона заключалась в том, что образы шабаша и колдовства как заведомо невозможного преступления сформировались в рамках существования некого агрессивного стереотипа, лежащего в основе крупнейших преследований европейской истории. Агрессивный стереотип включает в себя идею, что внутри общества существует закрытая организованная группа, которая целенаправленно совершает набор действий, подрывающий общепринятые нормы (оргии, каннибализм, инфантицид). Обвинения такого рода выдвигались против христиан во времена Нерона, а позднее – групп еретиков, тамплиеров и, наконец, ведьм. Позднее, по мысли Кона, уже в новейшей истории этот стереотип вернулся в виде идеи «всемирного еврейского заговора», что послужило основой нацистской политики геноцида. Несмотря на то, что Н. Кон не использует понятие «дискурс», его концепцию можно описать в категориях М. Фуко: агрессивный стереотип является одним из элементов властного дискурса в том смысле, что его всегда используют как символический потенциал в политических целях. Важно, что речь не идет о политическом терроре или религиозной нетерпимости – этот стереотип использовался как против христиан в Римской империи, так и христианами против еретиков или любых маргинализируемых групп в Средние века. Как указывает Р. М. Тойво, уязвимость концепции Н. Кона заключается в том, что далеко не все дела о колдовстве включали в себя обвинения, связанные с полетом на шабаш, однако (как опять же указывает Тойво) сам Кон никогда не распространял свои объяснения на все случаи охоты на ведьм. Наконец, ранняя работа Н. Кона «Погоня за тысячелетием» показывает еще одну важную грань этой концепции – идея очищения и преобразования всего общества путем уничтожения какой-либо группы присутствует и в ряде мистических доктрин Средневековья, то есть агрессивный стереотип присутствует даже вне властных отношений (когда церковь как организация преследует еретиков или ведьм). Как мы увидим далее, основные идеи Н. Кона местами заметно совпадают со взглядами автора книги.
5
Речь идет о специальном обряде освящения хлеба и вина, к участию в котором не допускались миряне. Особое внимание уделялось гостии, евхаристическому хлебу, освящение которой означает пресуществление, реальное присутствие тела Христова в ней (подробнее см.: Лобришон Г. Месса //Словарь средневековой культуры. М., 2007. С. 279)
6
Петробрузиане (также – петробрузианцы) – рационалистическая секта XII в., основанная Петром из Брюи (Petrus Brusius, сожжен на костре как еретик в 1125 г.). Петробрузиане настаивали на том, что церковь является исключительно мистическим единением верующих и потому не требует специальных учреждений (духовенства) и зданий для отправления культа (храмов). В качестве священных книг признавали только евангелия, отрицательно относились к идее крещения детей (поскольку те не осознают значения совершаемого таинства), также отрицали большинство церковных обрядов и таинств, почитание креста (как орудия казни Спасителя). Движение петробрузиан получило распространение на юге Франции – в Гиени и Лангедоке.
7
То есть упомянутого выше Петра Достопочтенного. Биографических сведений, кроме того, что он занимал должность нотария, на настоящий момент не известно.
8
Роберт из Арбрисселя (также Роберт д’Арбриссель, ок. 1045–1116) – отшельник, странствующий проповедник и основатель Королевского аббатства Фонтевро.
9
Виталий из аббатства Савиньи (ок. 1060–1122) был духовником Роберта, графа де Мортен, единоутробного брата Вильгельма Завоевателя. Позднее стал сподвижником Роберта из Арбрисселя, отшельником и странствующим проповедником. Виталий основал аббатство Савиньи. В 1244 г. его последователями была запущена официальная процедура канонизации, однако она не увенчалась успехом. Канонизирован Католической церковью только в 1738 г.
10
Бернард из Тиронского аббатства (также известен как Бернард из Пуатье, ок. 1050–1117) был монахом, но решил избрать путь отшельничества и присоединился к Виталию, будущему основателю аббатства Савиньи. Позднее как отшельник основал аббатство святой Троицы в Тироне. Сразу после смерти Бернарда был запущен процесс канонизации, однако он был причислен к лику святых только в 1861 г. (самый длительный процесс канонизации в истории Католической церкви).
11
Норберт Ксантенский (1080–1134) – странствующий проповедник и основатель ордена премонстрантов (по имени основателя их также называют норбертинцами). Норберт поддерживал идеи Бернарда Клервосского и осуждал учение Пьера Абеляра как еретическое. С 1126 г. – архиепископ Магдебурского диоцеза. Канонизирован в 1582 г. В ходе Реформации Магдебург стал протестантским городом, после чего в 1629 г. мощи святого Норберта были перенесены в пражский Страговский монастырь ордена премонстрантов.
12
«Добрые люди» – самоназвание групп еретиков, получивших в современной историографии название «альбигойцы».
13
Устав ордена миноритов (меньших братьев – лат. Ordo fratrum minorum) был утвержден 29 ноября 1223 г. буллой Solet annuere (лат. – «Снисходит всегда», первые слова содержательной части послания) папы Гонория III. Этот документ получил специальное название Regula bullata, поскольку именно получение буллы фактически означало признание официального статуса религиозного объединения в рамках католической церкви. К этому моменту уже существовал устав 1221 г., который не был утвержден Апостольским престолом, он сохранился в корпусе документов как Regula non bullata. Эта терминология хорошо передает мысль автора – именно булла папы Гонория III выделила францисканцев из числа других религиозных объединений, каждое из которых рисковало получить статус еретиков.
14
Автор затрагивает одну из самых дискуссионных проблем в современных исследованиях крестового похода и инквизиции в Лангедоке. С одной стороны, можно привести в качестве примера Э. Леруа Ладюри, который использует такие термины, как «катарство» или «альбигойская доктрина». С другой стороны, авторов сборника «Катары под вопросом» (Cathars in question / ed.by A. Sennis. NY, 2018). А. Сеннис, редактор последнего, указывает на то, что к началу XIII в. у еретиков не существовало институализированной церкви, потому невозможно говорить о «катаризме» как доктрине (в той мере, в какой мы говорим об их противниках).
15
Семь свободных искусств – система предметов обучения, сложившаяся в поздней античности и сохранявшаяся в средневековых школах и университетах. Дисциплины группировались в тривиум (грамматика, риторика, диалектика) и квадривиум (арифметика, геометрия, астрономия и музыка). Название означало, что эти дисциплины были достойным занятием свободного человека. В университетах семь свободных искусств изучались на младшем – «артистическом» (от лат. ars – искусство) – факультете. По завершении присваивалась степень «бакалавр искусств», после чего можно было продолжить обучение на одном из старших факультетов – теологии, права, медицины.
16
Семантическое смешение, о котором пишет автор, имело место в альпийских регионах – Сионском диоцезе (территория современной Швейцарии), Пьемонте, Дофине, которые стали последним прибежищем вальденсов в Европе. Как указывает О.И. Тогоева, деформация обвинения, которое теперь трактовалось как участие в секте ведьм и колдунов, могло быть вызвано к жизни незнанием местных жителей обычаев и верований чужаков (См.: Тогоева О.И. Еретичка, ставшая святой: две жизни Жанны д,’Арк. М.СПб, 2016. С. 105).