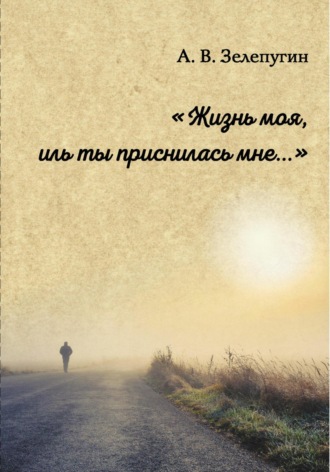
Полная версия
Жизнь моя, иль ты приснилась мне ZAV
Табун уже у ближнего леса, на опушке, где также много разнотравья: пырея, кукушника, подорожника, клевера, разных цветковых и конечно июльского подъягодника – так называют в деревне ягоды, растущие в лощинах холмов и на опушках леса. Но это не земляника с кисло-сладким привкусом, а ягода душистая, с необъяснимым вкусом, особенно когда она переспелая, тёмно-бордового цвета от солнца, падающего своими лучами почти под прямым углом на склоны холмов. Слева к ближнему лесу примыкало колосящееся поле спелой ржи, от которого надо было ограждать табун. Николай как раз смотрел за стадом с левой стороны, а Лобану досталась правая сторона, где было полегче и меньше напряжения. Дальше весь табун прогонялся как обычно через лес, состоящий из молодых берёзок и дубков, через небольшие поляны вверх по склону к вершине Красной горы. Гору назвали Красной, так как она с юго-западной стороны казалась красного цвета из-за содержания в ней красной глины с песком. Юго-западная сторона её была довольно крута, так что послеобеднее солнце падало на неё почти отвесно. Но название горе крым-сарайцы придумали поэтичное, под стать названию своего села.
Поднимаясь по лесному склону к большой лощине уже на самой Красной горе, Лобан не заметил, что половина табуна, за которой смотрел Николай, осталась внизу, на опушке леса, около колосящегося поля ржи. По началу Лобан не обратил внимания на отсутствие на горе половины стада. Нашёл помягче землю в подъягоднике и закопал пол-литровую стеклянную бутылку с молоком, заткнутую куском ситцевого платка вместо пробки, чтобы в обед запивать вкусные сочные красные ягоды прохладным молоком. А перед этим съесть куриное яйцо и кусок обжаренного куриного мяса с ломтем хлеба, свежеиспечённого в печи. Всё это собрала ему бабка Федосья в тряпичную сумку-котомку, не забыв положить две конфеты в обёртке. Часто конфеты таяли от солнечного тепла, но было всё равно очень вкусно обскрёбывать зубами остатки с гладкой конфетной обёртки. А июльское лето жаркое в Татарстане, как и всё лето – почти всегда под тридцать градусов.
Лобан прилёг спиной на тёплую землю и засмотрелся на белые пушистые облака, мирно плывущие подобно белым лебедям по чистому ясному небу. На короткое время он задремал, чуть было не заснув своим безмятежным детским сном. Но одна из коров громко замычала, Лобан очнулся, и тревожное предчувствие заставило его вскочить. Только теперь он осознал, что на горе нет половины табуна. Он с мальчишеским испугом побежал вниз по протоптанной дороге, в самом низу свернул, чтобы скоротать путь и, задевая ветки березняка и молодых дубков, наконец выбежал из леса на опушку, примыкающую к ржаному полю. Картина перед его взором предстала аховая: Николай-пастух лежал в траве в новой синей растёгнутой рубахе, рыжие волосы его перепутались с травой, и из полуоткрытого рта выступала зеленоватая пена. А над полем колосящейся ржи то тут, то там неожиданно появлялись хвосты коров. Зной стоял в воздухе, и тишину нарушал только необычно звонкий стрекот кузнечиков и недалёкий мерный шум жующего скота. «Николай! – что есть мочи закричал Лобан, – табун в хлебе!». Николай встрепенулся, он почувствовал сквозь пьяный угарный сон необычное детское отчаяние, вскочил на ноги, но тут же упал и снова вскочил с истошным криком: «Выгонять, гнать! Быстро, быстрее!» Николай не один раз внушал Лобану, что главное, не запускать табун в хлеба, Лобан это знал, как верующий молитву «Отче наш», потому и закричал коротко: «Табун в хлебе!». С трудом выгнав коров, они ещё около получаса гоняли их вдоль опушки леса и потом гнали через лес в гору, чтобы те опростались от обильных зёрен, из-за которых при взбухании их желудки лопались – коровы дохли. Слава богу, что всё обошлось, а то не видать бы Лобану велосипеда! Николай после этого случая как-то по-своему зауважал своего подпаска. И то сказать, могло ведь подохнуть много коров. Случай с прежним пастухом Сёмкой Немым в памяти был ещё свеж. Тут тебе ни денег, ни продуктов, возможно, тюрьма, а главное – самое страшное – самосуд!
Крым-сарайский народ жесток в таких случаях.
Сенокос
Толик Лобан отпас-таки всё лето. Было трудно, особенно тяжело было вставать ранними утрами, да ещё если накануне вечером показывали в деревне какойнибудь привозной приключенческий фильм типа «Тарзан» или «Бродяга» в главной роли с замечательным индийским актёром Радж Капуром, с его незабываемой песней и прекрасной мелодией: «Абара я, никто нигде не ждёт меня». На русском одна из песен в исполнении Радж Капура звучала так: «Разодет я как картинка, я в японских ботинках, в русской шапке большой, но с индийскою душой!». И Лобан на берегу речки исполнял сам перед собой все полюбившиеся ему песни, представляя себя соответствующим героем со всей глубиной своего детского, ещё не занятого пустым бытом, нетронутого детского нежного воображения.
И купил он себе этот желанный и недоступный для многих деревенских мальчишек велосипед пензенсскогоого завода с логотипом ПВЗ на рулевой никелированной стойке. Купил также, спустя три года, русскую гармонь-двухрядку с зеленоватым перламутровым оформлением мехов. И всё это было куплено на деньги, заработанные Лобаном своим трудом под чутким руководством и безмерной любовью бабки Федосьи, которая провожала и встречала своего единственного внука, когда он рано по утру уходил с табуном к Красной горе и к водопою Дымского ключа. В жаркие летние дни табун с из-под Красной горы иногда решались гнать к водопою на Дымской ключ, который один из немногих питал чистейшей водой речку Дымку. Наблюдательный и по-настоящему любящий этот край человек дал такое же поэтическое название речке – Дымка, на одном из берегов которой уютно примкнуло к речке небольшое татарское село Муртаза, расположившееся, как и КрымСарай, в необыкновенно живописном природном уголке Татарстана. На гармонь Лобан заработал плугарём на пахоте под озимые и скидовальщиком соломы при летней уборке хлебов в школьные каникулы. В деревне вовсю использовался в колхозе, а потом и в совхозе, детский труд, начиная с семи лет, а иногда и с шести, когда при заготовке сена в пойме речки Дымки родители под негласной командой председателя колхоза или директора совхоза сажали своих мальчишек верхом на лошадь, впряжённую в так называемые волокуши. Волокуши были выполнены довольно просто: вместо оглоблей к хомуту крепились две берёзки, поперёк которых сзади лошади крепились поперечины из тех же берёзок, но потоньше. Получалось что-то вроде берёзовой лестницы, на которую накладывали копну сена иногда довольно внушительного объёма. И мальчуган под ободряющие крики мужиков и баб «Молодец! Много привёз!» с гордым видом, ощущая себя взрослым, целый день приволакивал к омёту тонны сухого душистого сена.
Вот это эффективное приучение к труду! Но сплошь и рядом жило грубейшее нарушение правил безопасности и первое главное – использование детского труда при сельскохозяйственных работах. Правда, труд мальчишек при заготовке сена использовался только на субботниках и воскресниках и с разрешения их родителей под их же присмотром. И был незабываемый энтузиазм, ощущение большого коллективного праздника с приготовлением общей ухи в большом котле. Выделялись двое мужиков для ловли рыбы в Дымке, а для мальчишек свой праздник – поить и купать лошадей, плавая в жерешином яру, сидя на лошадях верхом.
Первая любовь
Таичка – так её ласкательно звали все в семье – родители, братья постарше и сестрёнка, с детства смышлёная, бойкая, умевшая рассмешить взрослую компанию, напевая частушки для взрослых. Таиса (Таичка) была, наоборот, молчаливой, даже казалась задумчивой. То ли то, что она была постарше, ей было уже четырнадцать, и много бытовых забот ложилось на её плечи, то ли это было свойство характера. Но зато бойкость её проявлялась в работе по дому: когда она подметала и мыла полы, убирала и мыла посуду, поила скотину. Получалось у неё всё быстро и аккуратно. Соседские подружки и ребята также звали её Таичка – это было как бы её настоящее исконное имя, и оно очень подходило и соответствовало ей. В школе она была отличницей, приходила всегда на выручку своим таваркам и товарищам по классу и была безмерно влюблена в литературу. Дома долгими зимними вечерами она на большой прогретой печке читала «Ревизор» Гоголя своим младшим братишкам и сестрёнке, и все дружно смеялись вслед за ней, зачастую не понимая смысла прочитанного. Когда же доходили до фразы, которую произносит городничий: «Позвать сюда Бобчинского и Добчинского», все смеялись до слёз, и когда при дальнейшем чтении Таичка произносила «Бобчинский» или «Добчинский», они как кодовые слова вызывали детский смех; особенно заливался пятилетний Ванюша, совершенно не понимавший о чём идёт речь.
Шли годы… Молодёжь тёмными зимними вечерами собиралась в домах сверстников потанцевать под гармонь или просто провести время, поговорить, посмотреть друг на друга. Это называли в обиходе вечорками. Особенно часто приходилось их проводить у Таисы (Таички), отец которой часто уезжал на заработки, а мать уходила на время вечорок к соседям. На вечёрках у Таички Лобан засматривался на неё и как будто играл на своей гармошке кадрили, польки и вальсы только для неё. Ему очень хотелось прикоснуться и обнять её. В редких случаях, когда он передавал свою гармошку сносно играющему, всегда улыбающемуся Витьке, сыну соседа Иван Степановича, он приглашал на вальс Таичку, и с трудом передвигая ноги, обуреваемый необъяснимыми чувствами, нежно держал её за талию. Однажды после окончания вечернего фильма, проходя мимо деревенской церкви в тёплый июльский дождь, он увидел Таичку, спрятавшуюся от дождя под сенью старых церковных тополей. Неведомая сила заставила его подойти к ней, и та же сила заставила обнять её и поцеловать в губы. Она подалась к нему, и он ощутил её стройное тело в мокром, облегающем сатиновом платье всем своим существом. Неожиданно кончился дождь, пошли из клуба люди, пережидавшие дождь, и Таичка быстро выбежала из под тополя.
Морозная весна 1953 года
Шёл 1953-й год. В послевоенные годы в деревне жилось тяжело: постоянное недоедание, особенно в больших семьях, где не было кормильца (убит на фронте или пропал без вести). И что уж говорить о медицине в деревнях. В Крым-Сарае хотя и была больница и был врач, попавший сюда по распределению, отсутствие необходимых лекарств делало его присутствие мало значимым. А зимы в Татарстане холодные, особенно холодным выдался 1953 год, с трескучими морозами, в перемешку с метелями такими, что так задувало дома снегом, что приходилось по утрам откапывать входные двери и окна.
Лобан в это самое время учился в Бугульминском профтехучилище на тракториста широкого профиля. Надо было восстанавливать страну, и правительство правильно решило действовать «по всем фронтам», начиная с сельского хозяйства и промышленности, уделяя особое внимание образованию, медицине, не забывая культуру, литературу и искусство. Школа жила своей жизнью: некоторые бывшие фронтовики, в основном из офицерского состава, становились преподавателями истории, разбавляя преимущественно женский коллектив преподавателей, что в целом благотворно сказывалось на школьной дисциплине. Иерархия КПСС строго соблюдалась, и сельская партячейка «брала под козырёк» на любые приказы, спущенные из района. Преподаватель математики, немолодая женщина, окончившая Бугульминскую городскую гимназию, входила в состав крым-сарайской партячейки, слепо выполняя районные приказы, являлась ответственной перед партактивом за комсомольские дела в школе. И когда поступила команда из района организовать приезд 13–14-летних школьников для приёма в комсомол, она тут же изъявила готовность исполнить приказ в ближайший выходной. Было начало марта, вся страна в трауре после смерти Сталина, вся деревня скорбила. Жизнь на селе как будто застыла, и морозы установились сильные. Недаром есть русская пословица «Пришёл марток, надевай двое парток», – мороз с утра зарядил под сорок, и пришедшие дети ёжились от холода. Но Зуева Зинаида Петровна была непоколебима – поедем! Хотя Петька Царь уговаривал отказаться от поездки, а сам при этом был в здоровенной шубе – главном их семейном достоянии. «Царь» – это опять деревенская кличка, приставшая к нему, когда он неумело пытался рассказать сказку Пушкина про царя Гвидона. Слишком много и часто проговаривал слово «царь», к нему и приклеилось эта кличка. Да и шуба этому способствовала, кто-то обозвал её царской.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



