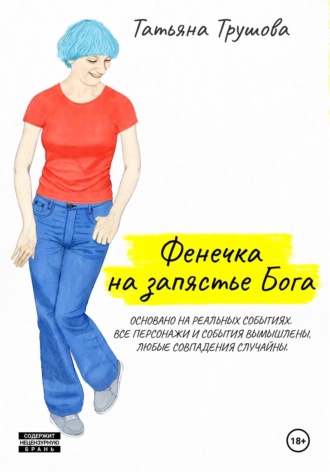
Полная версия
Фенечка на запястье Бога
Красивую книжку про пионеров мама взяла и пошла в школу. На следующей неделе преподавать плоскости и фигуры ко мне пришёл стеснительный молодой человек, выпускник педвуза.
На почве школы у меня было два «помешательства».
Первое – я хотела носить школьную форму. У всех она была – ужасная, коричневая, колючая и неудобная, да ещё с черным фартуком – эстетический кошмар всех советских детей и моей сестры. А у меня её не было, и я её вожделела.
Когда Леночка по утрам собиралась в школу, я с завистью смотрела на её «наряд» и так хотела выглядеть, как сестра. Постоянно думала о том, чтобы моё надомное обучение хоть как-то стало похожим на обычную школу. Благодаря телевизору я знала, как выглядят классы, как дети бегают на переменах – веселятся и кричат. Всё это я не могла получить, и мне хотелось хотя бы школьную форму.
Конечно, с житейской практической точки зрения она была нафиг не нужна, потому что школа не обязывала учеников-надомников носить форму, она стоила недёшево, и её нужно было каждый год покупать новую. Словом, так мне её ни разу и не купили, но перед уроком я часто мечтала о школьной форме. В санатории дети в школу носили гамаши и свитера – что было, то и носили. Никто не заморачивался.
Второй моей навязчивой идеей было желание вступить в пионерские ряды. Я фанатела от книги и фильма «Тимур и его команда», а ещё в санатории всем повязывали красные галстуки и ставили на торжественные линейки. Вдобавок к этому в группах проводили час политинформации, нам читали вслух пионерскую газету про буржуинов-империалистов и советских соколов. Тлетворное влияние извне сделало своё чёрное идеологическое дело. Дома я заявила в ультимативной форме, что «иду в пионеры».
Мама отговаривала, но если Танечка что-то вбивала себе в голову, капитуляция была наилучшим исходом. Кстати, когда мама хотела стать комсомолкой, бабушка её просто сильно выпорола.
Помню, как учила пионерскую клятву:
… перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить и беречь свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин…
Потом пришли классная руководительница и четыре испуганных ребёнка – мои одноклассники, которые прежде никогда не видели девочку-инвалида.
Я разволновалась, и, когда читала клятву, думаю, никто не понял ни слова. Мне повязали галстук, и все мы стали пить чай с маминым печеньем. Дети лопали сладости и могли уткнуться в чашки, испытав огромное облегчение оттого, что могут не смотреть на меня. Потом все ушли, и больше я своих одноклассников не видела.
Своё детство я воспринимала как идеально-счастливое. Не страшное. Не трагичное. Оно светлое и радостное. Оно понятное. Школа и книги. Мама и сестра. Скоро я вылечусь и стану «такая-как-все». Нормальная. Как и мечтали мы с мамой.
Глава четвёртая
Сестра Леночка старше меня на четыре года. Мы совершенно не похожи. Леночка – замкнутая и импульсивная, а я – общительная. Прежде чем отрезать – всё перепроверю семьсот пятьдесят пять раз и вынесу всем мозги.
Однажды мама купила сестре пижаму: брючки и кофточку. Обнаружив обновку, Леночка тут же надела её и отправилась к маме на работу в центр города. Пешком. Конечно, все мамины сослуживцы, увидев восьмилетнего ребёнка в таком виде, попáдали со смеху.
Мне кажется, «пижамная история» ранила сестру, но все её эмоции прятались в потаённых местах. Внутри Леночки хранилась коробочка, коробочка – в ларчике, который запирался на ключик, а ларчик – в сундучке. Её чувства скрывались так глубоко, что до них невозможно было добраться, и вместе с тем они всегда лежали на поверхности. Сестра прятала их от себя. Она прятала всё плохое, что происходило с ней, или то, что она воспринимала как плохое.
Когда я была ребёнком, Леночка постоянно возилась со мной. Она научила меня читать, считать и писать печатными буквами. Прописи мы с ней так и не одолели. Мои спастичные руки забастовали. Мы играли в девчачьи игры. Потом, когда меня стали отправлять в санаторий, мы скучали друг по другу. Она приезжала с мамой навестить меня в Барнаул.
В школе у неё появилась склонность к рисованию. Вернее, Леночка могла скопировать любую картинку.
В то время почтовые письма были на пике популярности. Все со всеми переписывались. Я обзавелась подружками по переписке из санаториев.
Леночка отправляла мне послания из дома. Каждое письмо она щедро украшала героями из мультфильмов и сказок. Так сестра хотела поддержать меня, посылая капельку тепла из дома. Её цветные рисунки являли собой шедевры!!! Они становились предметом зависти моих одногруппников. Сейчас я жалею, что не сохранила эти нетленки, эту бесценную роскошь нашего детства. В санаторий Леночка писала под диктовку мамы. Мама крутилась как белка в дурном колесе жизни. Так сложился наш семейный эпистолярный жанр: слова матери + рисунки сестры.
Я в ответ сочиняла послания совершенно дебильного характера. Все они начинались одинаково:
Привет из города такого-то!
Пишет вам ваша дочь Таня!
Как будто они не знали, кто им написал и кем я им прихожусь.
Дальше шёл длинный список вкусностей, который мог придумать только ребёнок, находящийся вне семьи и вечно хотящий жрать:
Дорогая мама, у меня всё хорошо. Пришли мне, пожалуйста…
Пять или десять наименований сладостей, которые видела у других детей. Я перечисляла абсолютно всё, что попадало в поле моего зрения: кукурузные палочки, мармеладки, зефирки, ириски «Золотой ключик», сгущёнку и многое другое, что присылали другим детям.
Конец писем тоже был стандартным:
У меня всё хорошо. Я хожу на все процедуры.
Целую. Таня.
В ответ я получала тоже стандартные письма: «Как ты себя чувствуешь?», «Мы скучаем», «Скоро приедем».
Несмотря на всю незамысловатость содержания, писем ждали с нетерпением обе стороны, словно мы жили в условиях Второй мировой войны и обменивались заветными треугольниками. Я в санатории внутренне подпрыгивала и делала кульбит, когда воспитательница говорила: «Трушова, тебе письмо».
Когда же я приезжала из санатория, мы с сестрой дня три жили мирно, обнимались-целовались, а затем начинались наши разборки.
Помню, как мне хотелось почитать Леночкин учебник по биологии. Зачем он мне сдался, я не знаю. Там красовались прикольные картинки с цветочками. В ответ на мою просьбу сестра сказала: «Ты дура и ничего не поймёшь».
Между прочим, «дура» в переводе с латыни означает не «глупая», а «смелая». Древние римляне называли своих современниц dura-femina.
Леночка засунула учебник на верхнюю полку книжного шкафа, откуда я ничего не могла достать. В наказание за вредность сестра была немедленно укушена за руку (я тогда только ползала, но кусалась молниеносно, как дитя гадюки), а она, в свою очередь, тут же отвесила мне звонкий подзатыльник. Тема была исчерпана. Родители ничего не знали. Мы никогда не стучали друг на друга. Примерно в таком режиме мы с ней жили.
Леночка владела не только «миниатюрными формами живописи». Наша большая трёхкомнатная квартира из-за отсутствия мебели изобиловала пустыми стенами, и сестра могла нарисовать что-нибудь монументальное. Комнаты, побеленные папиным секретным составом (в результате чего известь не осыпáлась и не оставалась на одежде), просто взывали к росписи. Поэтому Лена могла найти интересную открытку, например «Царевна-лягушка убивает своего сына», и, вооружившись гуашью, украсить подобной картиной одну из стен нашей комнаты.
Благодаря таким проявлениям её живописного гения мы жили среди бабочек, сказочных принцев, оленят и цыганок. Я стала искренней поклонницей её таланта.
Мама отдала Леночку в художественную школу, но сестра вскоре бросила её. Я прекрасно понимала Лену: за три месяца ей разрешили нарисовать лишь несколько кубиков, шар и синий кувшин. Преподаватели не оценили размаха её творческой натуры.
Хотя Леночкина учительница из художки приходила к нам домой и просила маму, повторяя такие слова, как «Уговорите! Способности! У нее прекрасно получается!», моя сестра упёрлась рогом и бросила художественную школу.
Checkpoint. У нас есть общее: мы обе упрямы.
Кроме живописи, сестра любила убираться в квартире. Как только мама уходила на работу, а Леночка приходила из школы, мы с ней начинали «наводить порядки». Меня она тоже приучала к общественно полезному труду. Я вытирала пыль, сама она намывала полы, а потом мы торжественно шли на кухню готовить ужин к приходу мамы. На кухне я была незаменимым помощником, потому что помнила наизусть все рецепты, все последовательности приготовления блюд и всегда знала ответ на самый важный вопрос всех времён и народов: «солила – не солила».
Я самостоятельно не готовила еду. Мне никогда не разрешали пользоваться ножом, ножницами и другими колюще-режущими предметами. Мама и сестра дико боялись, что я поранюсь из-за моего ДЦП. Я обижалась, но не протестовала. В детстве мне была недоступна эта форма гражданской активности.
Когда мне исполнилось лет двенадцать, я жадно ждала, когда все уйдут из дома, и начинала хулиганить на кухне. Например, я научилась включать газовую конфорку. Для этого сначала зажигала спичку и клала её на конфорку около сопла, а потом пускала газ. Когда он загорался, то ножом убирала горящую спичку, чтобы на конфорке не оставалось следа. Потом я осторожно двигала спичку ножом к краю плиты, где могла её извлечь и выбросить в ведро. Конечно, сначала я научилась зажигать сами спички, которые брала у курящего отца, а у него спичек было видимо-невидимо.
Такой способ пользоваться газовой плитой казался мне максимально безопасным. Но когда я показала его маме – у неё была истерика. Она сказала, что я спалю себя, квартиру, дом, всю планету, и категорически запретила мне подходить к плите.
Мама уходила на работу – я продолжала в своём духе.
Потом я научилась жарить яичницу. Это тоже оказалось довольно весело, поскольку рабочая рука у нас с Богом получилась только одна. Я намастрачилась потихоньку стучать сырым яйцом о ребро сковороды, чтобы оно слегка треснуло, а потом уже выдавливала его на дно. Было некрасиво (поскольку желток раздавливался и терял свою божественную круглую форму), но вкусно. Я собой безумно гордилась.
Следующим этапом стала «дрессировка» картофеля, так как он был основным продуктом нашего семейного рациона. Оказалось, что его необходимо чистить. Ножом. Блюда из нечищеного картофеля, например картофель в мундире, я не признавала кошерными.
Картофель можно почистить двумя способами. Первый – отварить в кожуре и почистить рукой, тогда нож не нужен. Но это было как-то не комильфо. Поэтому я решила научиться чистить сырой картофель. «Человеческим способом» я этого сделать не могла из-за левой руки: скользкая картофелина падала в раковину, и я часто резала себе пальцы. Но однажды меня осенило: я взяла тёрку и стала на ней сдирать кожуру картофеля.
Так у меня получилась чистая картофелина, правда, с неровной поверхностью. Вот такой экстравагантный способ почистить картофель я изобрела. Мои способы готовки были инвестициями в будущее. Ведь я жила с сестрой и мамой – моими «кормящими матерями». Словом, мои кулинарные усилия тогда, когда они во мне зарождались, не были востребованы. Кстати, почистить морковь оказалось гораздо легче из-за её продолговатой формы.
Меня «отпустило», когда я доказала себе, что смогу зажечь газовую плиту и приготовить элементарное. Я не останусь голодной! Поэтому я как-то охладела к кулинарии и прекратила издеваться над продуктами.
Сестра очень любила готовить. Особенно ей рвало крышу от выпекания тортов. К нам часто заходил такой персонаж, как Саша Артемьев, который учился в моём классе, – наши мамы приятельствовали. Саша был нестандартным по советским меркам мальчиком. Он любил вязать, шить и готовить. Мечтал стать поваром, а не слесарем. Неудивительно, что в школе одноклассники его избегали либо он их избегал. Не суть важно – в один прекрасный момент Саша стал захаживать к нам. Мы втроём устраивали кулинарные пиршества.
Мама всегда набивала холодильник продуктами. У неё были свои серые схемы и подпольные трафики, с помощью которых наша семья обеспечивалась «халявными припасами». Поэтому мама нас никогда не ругала за те горы переведённых продуктов, которые превращались поначалу в несъедобные коржи и кремы. Так мы втроём учились делать безе, бисквиты, шарлотки – словом, всё, что могли изобрести наши пытливые, не ограниченные рамками умы. Однажды мы растопили гору ирисок и сделали из них начинку для торта. Мне поручили почётную должность «разворачивателя ирисок».
Я думаю, мама радовалась нашим кулинарным экспериментам просто потому, что мы были заняты чем-то полезным, а я общалась со своим сверстником – Сашей.
После кулинарных безумств сестра шла к зеркалу и видела каждый грамм торта на своей фигуре. Моя фигура хранила железное алиби, словно я ничего не ела. Никогда. Ни одного кусочка торта. В то время как фигура моей бедной сестры вопила из зеркала: «Виновна!» Леночка вздыхала и шла делать зарядку. У неё был хулахуп – артефакт любой приличной девушки того времени. Она его крутила вокруг талии, пыталась качать пресс. Но всё это не помогало, конечно же.
Потому что сестра изначально была крупной девочкой, потом она переболела «боткина» и стала ещё более крупной, и, наконец, любовь к сладкому и мучному довела её фигуру до «совершенства». По мне, так никакой катастрофы с ней не происходило. Она была симпатичной, подвижной девушкой с чувством юмора. Но Лена хотела быть такой же худышкой, как я, поэтому её переживаниям не было конца.
Помню, как она перетащила из прихожей в зал огромный трельяж и простаивала перед ним часами, мучая меня вопросом:
– Я поправилась?
– Конечно нет. Зачем ты всё время об этом думаешь?
На мой взгляд, она излишне комплексовала, зациклившись на своей полноте и вещах, которые не могла себе позволить. Ей хотелось всякого: модных джинсов, сапог и золотых украшений – обязательного статусного аксессуара провинциальной сибирской девушки. Без всех этих вещей жизнь в понимании сестры не считалась полноценной и успешной.
У Леночки был ещё один талант: она умела устраивать праздники.
Когда случалось какое-нибудь торжество, всё наше многочисленное семейство – бабушка, тёти, дяди и их дети – собиралось в наших «хоромах».
Мы с сестрой придумывали культурную программу. За репертуар отвечала я; поскольку тогда не было интернета, все «номера» я привозила из санатория, где было очень развито устное народное творчество. Весь этот культурный багаж я демонстрировала сестре. Леночка отметала часть, где попадалась ненормативная лексика, или переделывала её. Потом мы начинали готовиться. Сами делали костюмы из тех вещей, которые мама разрешала использовать. А потом, когда все собирались за столом, мы начинали вести «корпоратив». Наша родня охотно смотрела сценки и сольные исполнения, сопровождая их бурными и восхищёнными овациями. При этом все гораздо меньше пили. А потом наш репертуар расширился и до конкурсов. Мы определённо имели успех.
А ещё Леночка рассказывала мне, что ей снились сны, в которых она приходила к маме. Беременной маме. Во сне сестра брала её за руку и вела в больницу, чтобы маме сделали «кесарево». Я рождалась здоровой и красивой. Мы жили долго и счастливо.
Мечты сестры были несбыточными, но мне становилось приятно, что она переживает и заботится. Сестра, как и мама, так хотела, чтобы я стала нормальной. Такой, как все.
Глава пятая
Мне исполнилось четырнадцать лет, когда умерла бабушка Дуся. Я плохо помню смерть дедушки, она не ощущалась как потеря, словно он был частью целого – баба-деда. Я никогда так не говорила, но так чувствовала, и когда дедушка умер, ушла одна половинка, но другая – бабушка – осталась. Потом я попала в водоворот санаториев, и смерть дедушки не превратилась в душевную рану.
Смерть бабушки я почувствовала иначе: меня будто меня отрезали от пуповины, умерла важная часть моей жизни – наши песни, наши игры в «дурака», где я всегда проигрывала, наши посиделки под радио и телевизор. Она больше никогда не принесёт мне слипшихся дешёвых конфет, которые я так любила, не расскажет хитрую деревенскую сказку «про белого бычка», не спросит, глядя в телевизор: «Таня, это кто? Мужик али баба?», потому что все актёры отрастили длинные волосы и подслеповатой бабе Дусе было трудно отличить их по половому признаку. А я никогда-никогда не приду к ней в гости в её однокомнатную квартиру, чтобы играть под столом, накрытым скатертью, и висеть на перилах железной кровати. Перед смертью бабушка долго болела, и мы все знали, что она скоро уйдёт, но смерть пришла неожиданно и абсолютно нечестно. Как обычно. Вчера ещё мы с ней разговаривали, а утром её не стало.
Тогда, именно в четырнадцать лет, у меня в голове что-то щёлкнуло. Не знаю, что это было, но точно помню звук – резкий и пугающий. Словно кто-то внутри меня сказал: «Кто я?», «Где я»? «Что со мной происходит?» Банальные вопросы нервного подростка. Мне представилось, как я буду жить дальше с мамой, телевизором и диваном. Мне стало плохо. Как будто из меня вынули кусок мяса, показали и сказали: «А это, деточка, твоя душа», – потом повертели в руках и выбросили вон.
Я увидела картинку так явно, что меня стошнило.
Меня затрясло, и я поняла, что должна что-то сделать. Что угодно.
На Эверест не пошла и на фашистский дзот тоже.
Я влюбилась. В образ мужчины, к которому никаким боком близко не стояла. Если скажу, что было всё равно в кого влюбиться, то это будет почти честно. Может быть, моя душа хотела переживаний. А может, просто «пришла пора, она влюбилась».
Мы отдыхали в одном санатории, я провожала его испуганными взглядами, не совсем понимая, зачем мне этот дядька лет тридцати. Обычно я вожделела его в столовой – голубоглазого блондина в красном спортивном костюме. Полубог! Потом на столе, на посту медсестры я подсмотрела его имя и фамилию: Юрий Жданов. А когда приехала домой, в газете «Бийский рабочий» прочла, что он спелеолог, женатый спелеолог, и у него там, в далёкой вселенной, есть ребёнок.
Словом, я любила и страдала просто так, без претензий на действительность. И вдруг написала стих. Внезапно. Про собак – как им холодно зимой. Тема была далека от любовной лирики, но каждого нервного ребёнка выворачивает по-своему. Стих был очень жалостливый: «…они поджали мёрзлые хвосты». Два четверостишия я показала маме. Естественно, она сказала:
– Ты не могла его написать. Ты где-то списала.
Я оскорбилась.
– Тогда напиши про мою родную деревню, про Куреево.
Мама часто и подробно рассказывала мне про свою родину. И я написала. И стала официально признанным мамой поэтом.
В сентябре ко мне пришла новая учительница по русскому языку и литературе. Её звали Татьяна Николаевна. Она вплывала в комнату – её янтарные бусы и серьги тихо переливались. Учительница была полной, носила очки и тоже любила книги. Благодаря ей у меня появились литературные вкусовые рецепторы, с ней я научились читать хорошую литературу и понимать прочитанное. Наши уроки зачастую затягивались на лишний часок-другой. Именно она стала мне приносить и самиздат, и Мопассана, и Флобера. Именно ей я показала первую тетрадку со стихами. Она не стала её читать на ходу, а попросила разрешения взять домой. Татьяна Николаевна была очень деликатной. Через неделю она вернула мне тетрадь и сказала, что ей всё понравилось, а затем предложила:
– Давай возьмём несколько стихотворений и ещё напишем небольшую заметку о тебе, и пошлём в нашу газету «Бийский рабочий».
Мы так и сделали.
Через некоторое время ко мне пришла молодая девушка Элла – студентка четвёртого курса Алтайского госуниверситета. Она училась на факультете журналистики. В Бийске Элла гостила то ли у бабушки, то ли у родственников. Она родилась и выросла в Вильнюсе, но её семье пришлось переехать в Барнаул. В Литве они жить не могли – вынуждены были бежать от прибалтийской ненависти к русским.
Элла выглядела совершенно не бийской, не провинциальной. Ко мне она пришла, потому что проходила журналистскую практику и ей требовалось написать заметку в любую газету. Видимо, ей хотелось написать что-то необычное, интересное – и история девочки-инвалида, пишущей стихи, привлекла её внимание.
Она пришла и просто поговорила со мной, а через неделю в газете вышла заметка «про нашу девочку». Элла написала и про моё одиночество, и про мою любовь к литературе, и про провинциальность жизни в целом.
Статья получилась трогательной, а местами и мелодраматичной. Благодаря ей обо мне узнали в местном литобъединении «Парус», ведь в то время нашу местную газету в четыре страницы читал весь город.
В литобъединении «Парус» собирались местные поэты и прозаики. Одна из них – поэтесса Ида Фёдоровна – работала в моей школе и была коллегой моей учительницы по литературе Татьяны Николаевны. Поэтесса, как человек, имевший авторитет в бийской литературе, после статьи в газете возжелала взглянуть на мои стишочки.
Стихи, по правде говоря, были дурные, однако они множились в геометрической прогрессии. Порядком исписанная тетрадь через Татьяну Николаевну поплыла к Иде Фёдоровне. Стихотворная дама бесцеремонно тетрадь поисчеркала и на обороте написала пространный совет, чтó мне надо читать (список поэтов) и куда мне надо идти (адрес литобъединения).
Я жутко обиделась. Даже не на поправки и советы дамы, а на то, что написала она всё это прямо в заветной тетради. За короткое время тетрадка стала чем-то личным, и чужой почерк в ней… будто он осквернил моё божество. Я была нервным, экзальтированным и обидчивым подростком. Мне пришлось переписывать свои вирши в новую тетрадь. Я злилась – ведь писала я очень медленно, и кроме старых стихов нужно было успеть записать новые.
Мы с мамой пошли в литобъединение. Мне было любопытно, а мама потакала любым моим затеям. Тем более что обо мне написали в местной газете – весомая причина. Мама была горда.
Оплот бийской литературной богемы располагался в ДК Котельного завода, расстояние до него от нашего дома равнялось двум трамвайным остановкам и одному марш-броску по переулкам. Собиралась богема раз в неделю после 18:00, поскольку приходили туда взрослые, работающие тёти и дяди. Мы нанесли литобъединению «Парус» несколько визитов, а потом мама решила, что зимний вечер не лучшее время для поздних прогулок с плохо ходящим подростком. Словом, решили отложить дальнейшее общение до весны.
Кроме того, богема оказалась скучной. В первый мой приход какой-то мужчина долго читал вслух рассказ про колхоз. Рассказ показался мне нудным. Потом Ида Фёдоровна делала ему замечания. Она делала толковые замечания всем, но тактом не отличалась. А разве так можно с творческими людьми? Они же чуть что – и в обморок. После замечаний все разошлись. Особого восторга я не испытала, однако Ида Фёдоровна меня представила и прочла какой-то мой стих. Было приятно.
Но когда мы с мамой перестали ходить в «Парус», то литобъединение пришло ко мне.
Так я познакомилась со Светланой Козловой. Коротко стриженная, с дерзким носом и зелёными глазами, она стала моей первой взрослой подругой. Козлова пришла ко мне домой. Оказалось, что, когда мы с мамой посещали богему, она не смогла прийти. Потом ее братья и сёстры по перу рассказали ей про девочку-инвалида, которая пишет стихи. Она заинтересовалась моим необычным культурным феноменом. В то время инвалиды не ходили в народ, а скромно сидели по домам. И когда я явила себя миру, многие «парусники» приходили на меня поглазеть. Козлова тоже решила со мною познакомиться. Мы сразу нашли общий язык – она читала мои стихи вслух и задавала правильные вопросы:
– Что это значит? Почему такой образ? Что ты хотела сказать?
Козлова много хвалила и много объясняла про стихосложение, делилась знаниями, которые я нигде не могла почерпнуть – с её помощью мои скромные слагательные способности быстро расцвели и заколосились. Кроме стихов у нас оказалось много общего в жизни. Мы обе любили своих матерей и обе их побаивались. Обе были одинокими «девушками»: мне тогда исполнилось пятнадцать, а Козлова вовсе уже не была девушкой, у неё в багаже болтался весьма взрослый сын – примерно мой ровесник. И обе были довольно бедны.
Кроме Козловой разные творческие личности заходили ко мне на чай и чтобы продекламировать свои высокохудожественные произведения. Квартира превратилась в проходной двор, и сестра, любившая уединение и покой, пошла на крайние меры.
Она не только умела покрывать стены росписью и устраивать праздники – сестра также была прирождённым дизайнером интерьера. Леночка обожала делать разные перестановки с мебелью; иногда она передвигала мебель сама, иногда просила отца, который, к моему удивлению, послушно выполнял её приказы. Мама не терпела никаких перемен, поэтому все пляски с мебелью происходили в её отсутствие. Как бы она приходит с работы, а всё уже переставлено. Смирись, мама!

