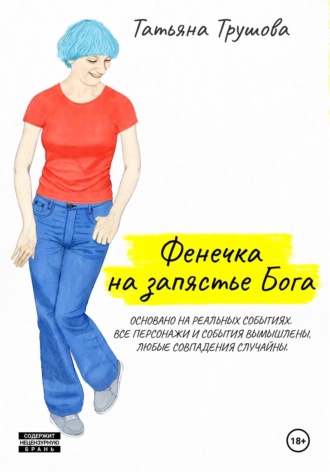
Полная версия
Фенечка на запястье Бога
После отбоя, когда по чёрно-белому телевизору, стоящему в нашей группе, начинали показывать «взрослый» фильм, тётя Таня приходила за мной (при этом она заранее заговорщицки предупреждала меня, что придёт, чтобы я не спала), брала на руки, закутывала в одеяло и уносила из спальни в группу. Там она сажала меня, укутанную, как куколку бабочки, на стол перед телевизором, сама садилась рядом. Так мы смотрели фильмы про Чапаева и другую героическую фантастику тех лет. В такие моменты я чувствовала себя взрослой и избранной, ведь остальные дети оставались в спальне. С этим сладостным чувством я засыпала на середине фильма.
Ещё помню воспитательницу Зою Петровну – полноватую, миловидную. Мы были на прогулке. Стояла сладкая осень. Неожиданно приехала мама. Я, считаясь «неходячей», сидела вместе с подобными мне на лавочке. И вот мама просит Зою Петровну, чтобы та разрешила ей погулять со мной возле детской площадки. Воспитательница разрешает, хотя мама приехала в неположенное для свиданий с родителями время.
Мы с мамой гуляем возле детской площадки. При этом я повисаю на её левой руке, но довольно уверено перебираю ногами. Ходить сама я не могу – теряю равновесие, – а зацепившись за маму, становлюсь прямоходящим приматом.
Мне уже семь. Наш обычный разговор, который будет повторяться миллион раз: «Ты хорошо кушаешь? Тебя не обижают? Надо ходить на все процедуры!» Потом мама оставляет меня и пакет с фруктами и конфетами на совесть Зои Петровны и, сдерживая слезы, спешит на автобус в Бийск. А в голове моей воспитательницы происходит взрыв! Оказывается, Таня Трушова может ходить – кривовато, с поддержкой, практически повиснув на своём «ведущем». Но может! И Зое Петровне не всё равно!
После того случая она начинает меня «выгуливать». При этом мы с ней о чём-то беседуем, я отчего-то вызываю у неё симпатию до такой степени, что Зоя Петровна начинает меня «подкармливать», принося домашние пирожки, конфеты, – словом, всё то, что делает ребёнка в санатории чуточку счастливее. Всю домашнюю контрабанду, завёрнутую в газету, воспитательница оставляет под моей подушкой, и после отбоя я сладко шуршу сокровищами под завистливые взгляды и перешёптывания соседок. Мне завидуют недолго – я умею делиться.
Потом мама узнала ещё об одном санатории в Курганской области – «Озеро Горькое». Железнодорожная станция, до которой нужно было доехать, называлась Алакуль. Мы поехали туда на «прямом» поезде без пересадок втроём: мама, сестра и я. «Озеро Горькое» имело статус санатория всесоюзного значения, но поезд на станции стоял одну минуту. Родителям с детьми-инвалидами приходилось спрыгивать на платформу за эту одну минуту. С вещами.
Мама была прыткой и бесстрашной – мы как-то ухитрялись «выгрузиться», «выкинуться» из поезда вместе с чемоданами. Потом шли на крохотный вокзальчик и долго сидели, ждали, пока из санатория придёт специальный ПАЗик и заберёт прибывших на лечение. Автобус ходил два-три раза в день, по расписанию в дни заезда – видимо, к приходу поездов. От самой станции санаторий находился в десяти километрах, и обычный транспорт там попросту не ходил. Несколько раз мама с сестрой не успевали на этот ПАЗик и шли обратно пешком, сдав меня медперсоналу. Конечно же, гостиницы для родителей в санатории всесоюзного значения не было.
В Барнаул и в «Озеро Горькое» мама возила меня каждый год до тех пор, пока мне не исполнилось четырнадцать лет. То есть всё это время – с шести до четырнадцати – я по полгода не жила дома.
Можно воспринимать санаторский быт как трагедию, но благодаря тому, что маме удавалось за взятки доставать путёвки и отправлять меня лечиться, я научилась самостоятельности, смогла лучше передвигаться и обслуживать себя.
«Озеро Горькое» было большим санаторием. Длинное прямоугольное двухэтажное здание. Много групп, разделённых по возрастному признаку. Первый раз я попала в младшую группу. В «Озере Горьком» тоже были грязелечебница, водолечебница, физиокабинет. Всё это было разбросано по территории и находилось далеко от жилого корпуса. Нас, неходячих, возили на знакомом уже санаторском ПАЗике. Загружал нас в него вечно пьяный грузчик дядя Лёша, он всегда ходил в огромных сапогах, как кот из сказки. Дядя Лёша – добрый, хитро улыбающийся. Мы его обожали. Он закидывал нас, «маломобильных», в ПАЗик, а потом выкидывал возле грязелечебницы или физиокабинета. За всё время пьяный дядя Лёша не уронил ни одного ребёнка.
В «Горьком» случилось первое чудо в моей жизни. В плане реабилитации. Невропатолог Мансур Нургалиевич показал мне устройство, которое сравнимо с современными ходунками. Удивительная конструкция представляла собой полуовал с довольно длинными поручнями, сваренными из металлических труб небольшого диаметра. Сбоку имелись бортики, на которые я могла навалиться, повиснуть всем телом и держаться руками. Всё это чудо было оснащено колёсиками. Гениальное изобретение неизвестного «кулибина»!
Повиснув на «ракете» (так я её про себя называла), я могла перебирать ногами и передвигаться самостоятельно. «Ракета» вызвала у меня восторг и бурю эмоций. Теперь вечерами после ужина (мы проходили все процедуры до обеда, потом был тихий час, потом школа, потом ужин), когда начинались игры с мозаиками, шашками, шахматами и прочей дребеденью, я «гоняла» на своей «ракете» по длинному, как казалось в детстве, коридору. Метров сто или сто пятьдесят в одну сторону, затем разворот и обратно. Я упоённо «гоняла» по нему, пуская слюни от удовольствия.
До «Горького» мама доехать с передачей, конечно, не могла. Вся дорога туда и обратно занимала пять дней. Поэтому из дома мне приходили посылки и письма. В санатории предусматривался специальный «посылочный день», который мы все ждали.
До «ракеты» в «Горьком» меня впервые в жизни посадили в инвалидную коляску, принадлежащую санаторию, – довольно громоздкую и страшную. Управлять этим устройством самостоятельно я не могла, ведь у меня рабочая рука была только правая, крутить колёса самой не получалось. Поэтому я стала подшефной: меня прикрепили к мальчику Руслану из Ташкента. Оба смуглые, кареглазые, черноволосые и хохочущие, мы сходили за сестру и брата, жили в одной группе, нам было по семь лет. Руслану вменялось в обязанности возить меня по главному корпусу, когда наша группа двигалась в столовую или игровую, сомкнув ряды. Катал он меня на монстре советской промышленности довольно охотно, я бы даже сказала с азартом. Руслан был здоровый мальчик, но «ослабленный»; его родители за взятку купили ему путёвку в санаторий – подлечиться.
Однажды, когда группа собиралась на прогулку и все дети уже ушли с воспитателем, я задержалась – никак не могла застегнуть пуговицу на меховой шапочке. Задержался и Руслан – ведь ему нужно было везти меня на массовые гулянья. Пуговица упрямо не хотела застёгиваться. В это время подошла нянечка и стала мне помогать. И вдруг Руслан меня поцеловал в щёку – неожиданно, по-детски открыто и совершенно не смущаясь.
– Руслан, что ты делаешь?! – воскликнула я.
Он засмеялся.
– Наверное, ты ему нравишься, – предположила нянечка. Она уже одолела пуговицу и, улыбаясь, смотрела на нас.
– Да, я же тебя люблю! – радостно сказал Руслан.
Чистая детская душа – всё просто. Вот трава. Вот солнце. Вот любовь.
– Я тоже тебя люблю, – ответила я совершенно искренне и удивилась: мир такой большой и прекрасный!
Скоро все в группе знали о нашей любви – воспитатели и нянечки улыбались, никто не осуждал и не говорил, что наше поведение плохое. Руслан очень ревниво относился, если кто-то другой возил меня на коляске. Помню, как однажды меня в столовую повёз другой мальчик, – тогда они чуть не подрались. Мы с Русланом ещё пару раз по-детски целовались.
Сейчас я думаю, что настоящая любовь даётся людям с чистой детской душой, потому что такого потрясающего мужчину, как семилетний мальчик из Ташкента, я больше в своей жизни не встречала.
Как и любому нормальному ребёнку, мне были доступны свои радости, горести и страхи.
В детстве я мамина любимая дочка. Девочка-цветочек. Капелька. С безусловным правом на её любовь. Но по мере того, как мы ездим по санаториям, а я становлюсь старше, мама заражается вирусом исцеления – она верит, что исцеление всенепременно, как обетование, как крупа с неба придёт. Моё исцеление. Тогда я многого не понимаю и многому верю. Маме – безоговорочно. Так из девочки-цветочка я превращаюсь в «девочку–из–Спарты».
Для меня начинается период пыток.
– Ты сделала зарядку? Тебе же показывали на ЛФКа в санатории! Чем ты занимаешься целыми днями?!
Она не замечает, как кричит на меня, потому что так они всегда на протяжении долгих, как сибирские реки, дней и ночей, всегда-превсегда кричат друг на друга. Папа и мама.
А чем я занимаюсь вместо зарядки? Обычным детским ничегонеделанием. Я достаточно умна, чтобы, учась на дому, практически не учиться. Всё, что говорят учителя на уроках, прочно и без усилий оседает в моей голове. Карие глаза не по годам умной девочки лукаво горят. Я так хочу оставаться девочкой-цветочком, динь-дон!
Этот цветочек хочет играть в любимые игрушки: машинки, пистолетики, конструкторы. Мой бог, как я любила конструкторы! Я была конструкторозависимой. Все мои достижения – возведённые башни, подъёмные краны, машинки и танки, собранные из кирпичиков и деталек, – я гордо демонстрировала маме.
Она не была безучастной, она меня хвалила. Но на уме у мамы были китайские пытки. Много-много китайских пыток.
Если вам показывают ребёнка, с восторгом занимающемся ЛФКа:, – либо вас обманывают, либо это не человеческий детёныш.
Мама вываливала передо мной бочонки лото и заставляла складывать левой больной рукой в мешок. Долбаные коричневые пластмассовые бочонки! Целых девяносто штук! Как же я их ненавидела! Моя левая рука так и не разработалась, так и не стала счастливой нормальной рукой. Бог пошутил, и ожили лишь те клетки мозга, которые отвечают за мою правую руку.
Но это не аргумент, потому что я слышу до сих пор и буквально:
– Ты плохо старалась.
Этот шлейф вины будет тянуться за мной долгие годы, пока я, став взрослой, не пойму сущность своего заболевания: ДЦП не лечится.
Мама осознать «неисцеление» не сможет никогда. Она всегда будет мечтать, чтобы я стала здоровой, «такой-как-все».
Девочка-цветочек многого не понимает, но точно не хочет быть девочкой-из-Спарты. Она убегает в книжки и своё воображение, пока папа-чудовище кричит на маму-жертву. Сестра то ли плачет на своей кровати, то ли учит что-то – я не уверена ни в том, ни в другом.
После лото я обязана собирать пуговицы в шкатулку. Затем приходит черёд мозаики – сложи три цветочка. Три ромашки непослушными спастичными2 пальцами. Под занавес – приседания как апофеоз пыточной системы. Не десять и не двадцать – их должно быть как минимум пятьдесят, а лучше сто. При этом никто из родителей не соорудил в нашей большой квартире хотя бы шведскую стенку. Никто не хотел заниматься ЛФКа вместе со мной. «Девочкам-из-Спарты» нельзя помогать.
Папе было некогда – чудовищам несвойственно заботиться о детях или жёнах. Мама работала на двух-трёх работах, чтобы прокормить себя, сестру и меня и отвезти меня (неблагодарную) в санаторий.
Какой немыслимый ужас: я не стала Павкой Корчагиным и Александром Мересьевым, я плохо тянула на Зою Космодемьянскую. Из меня не получились гвозди, как мечтал Николай Тихонов. Мой первый смертный грех состоял в том, что я была «девочка-цветочек». Какой ужас!
Ключевое слово – «была».
Мамин фанатизм и жернова санаториев перемололи хлипкие травинки детства – я стала спартанкой.
Глава третья
В семь лет я «пошла» в школу. Об инклюзивном образовании мы с мамой даже не мечтали, поскольку для детей-инвалидов советское государство предлагало только надомное обучение. Сначала полагалось пройти комиссию и доказать, что я обучаема.
Помню, как мы поехали на «собеседование». Мама обрядила меня в красно-синее платье-шотландку и повязала нелепый бант, норовивший свалиться с коротких волос. Помню, как она долго несла меня на руках от автобусной остановки, как мы мучительно долго сидели в коридоре. Новые шерстяные колготы раздражённо чесались. Мама взволнованно инструктировала меня:
– Ничего не бойся и не торопись, главное – говори спокойно, чтоб тебя все поняли.
Я улыбалась и кивала. Представить грозные вопросы комиссии я не могла, но волнение мамы передалось мне. Однако девочка-из-Спарты была слишком наивной и жизнерадостной, чтобы испугаться, и, когда нас пригласили в кабинет, стала охотно отвечать на вопросы, совершенно забыв о своей нечленораздельной речи.
Вопросы были глупыми:
– Как тебя зовут?
– Таня Трушова.
– Это какой цвет?
– Красный.
– Сколько будет пять плюс два?
– Семь….
Происходившее воспринималось довольно сюрреалистично, но мы с мамой совершенно не хотели учиться во вспомогательной школе. В санатории я однажды видела девочку, ей было десять лет – в её учебниках жили ягодки и птички. Поэтому на дурацкой комиссии мы с мамой бились за первую социальную ступень – среднее образование. Мы победили – облечённая властью комиссия постановила: ко мне на дом будет ходить учительница начальных классов. Комиссию пришлось проходить ещё и потому, что ДЦПшники часто бывают умственно отсталыми. Мой интеллект сохранился. Повезло.
Наша семья жила в нагорной части Бийска – окраине города. Район назывался «витаминка». Вокруг простирались первозданная земля, на которую ещё не ступила нога садовода-захватчика. Городской транспорт сюда не ходил, сюда и Макар телят не гонял. Моя сестра ходила в школу пешком – два километра туда-обратно. Ко мне на дом, на «витаминку» – забытое богом место – учительница вряд ли бы стала ходить регулярно. Так перед мамой встал жилищный вопрос.
Мой отец к тому моменту окончательно превратился в зомби. Навсегда. Он только и делал, что покупал зелье и питался матерью. Внешне отец ещё не потерял человеческий облик. Даже ходил на работу и зарабатывал вполне приличные деньги. С семьёй своими баснословными заработками он не делился: тратил всё исключительно на свои собственные нужды. Прежде всего на любимое зелье – водку, затем на водку, и снова на водку. Вокруг него всегда кружила стая собутыльников. Отца часто не было дома, а когда он являлся домой «вечно молодой, вечно пьяный», то принимался откусывать «куски плоти» от моей матери. Делал он это упорно и безжалостно до тех пор, пока она не начинала «истекать кровью». Сначала мама упорно молчала, слушая его пьяный зомбический бред из слов, которые кромсали, как бритва. Потом теряла терпение, выходила из себя, кричала и истекала кровью, как тысячи других женщин на её месте, как все жертвы зомби-алкоголиков. От зомби нельзя защититься. От них можно только убежать. Или убить их.
Искромсав мать до полубессознательного состояния, отец заваливался спать. Мама никуда не могла сбежать – жилья не было, на квартиру с больным ребёнком не пускали. Она не могла убить отца – есть люди, которые не могут убить, даже если гибнут сами.
Так продолжалось изо дня в день до тех пор, пока мама не осознала два факта. Первый: мне пора в школу, и из нашей хибары нужно куда-то выбираться. Второй: оказывается, мне, как ребёнку-инвалиду, положено благоустроенное жильё.
Тогда-то мама узнала, что есть женщина, которая «сидит на квартирах» и берёт взятки. В эту сторону потекли молочные реки и кисельные берега. Все те дефицитные артефакты, за которые мама «доставала» путёвки в санаторий, теперь переправлялись к «квартирной тётеньке». Мама была настойчивой, тётенька – жадной. Словом, все эти танцы с волками, с жилищной комиссией закончились получением ордера на однокомнатную квартиру, на восьмом этаже девятиэтажки. Лифт, конечно же, ни разу не работал.
Вот, казалось бы, шанс для окончательного триумфального бегства от чудовища: мама, сестра и я переехали в «благоустройку», отбив у отца немного неказистой мебели.
В «небесной квартирке» мы прожили почти год.
Отец испугался потерять своих жертв, испугался остаться один и утратить остатки своей личности. Он совершил невозможное и перевёз нас в трёхкомнатные хоромы, объединив свою неблагоустроенную халупу и нашу благустроенную однушку. При этом он доплатил какие-то бешеные деньги и нашел 80-метровую квартиру на первом этаже (чтобы Танечке было удобно гулять) в приличном районе.
Мама купилась. Ей хотелось пожить в хорошей квартире. Отец обещал измениться. Не кусаться, не пить, обеспечивать. Мама поверила. Квартира превратилась в мышеловку.
Мы переехали. Хоромы стояли полупустыми – оказалось, что у нас мало мебели, – и соблазнительно отдавали гулким эхом необъятности. Позже прямо на побеленных стенах сестра будет рисовать дивных сказочных персонажей, срисовывая их с советских открыток, мама будет выбивать советскую мебель, ковры, хрусталь – все прелести обычной жизни, а папа будет оставаться зомби: он будет всё так же пить, нападать на маму и тратить зарплату на себя, любимого, правда, теперь в собственной отдельной комнате, что создаст иллюзию мнимого благополучия. Зверь затаился…
Житейских проблем я тогда не могла постигнуть – они шли мимо меня, по касательной. Тогда «девочка-из-Спарты» снаружи, но девочка-колокольчик внутри нашла свою дорогу. Сначала дорога была лишь едва заметной тропинкой в белохалатной, врачебной череде моих будней, когда наша прекрасная семья переехала в хоромы на улицу Мерлина. Кстати, Мерлин оказался не волшебником, а боевым большевиком-офицером. Здесь я впервые открыла портал в другой мир.
Моей тропинкой, моим спасением, моим убежищем стала библиотека.
Она притулилась в соседнем доме на первом этаже длинной девятиэтажки, которую мы прозвали «клюшка». Тогда город изобиловал библиотеками и другими очагами культуры, особенно в приличных районах. Мама обожала читать и молниеносно записала меня в библиотеку.
Я бегло читала лет с пяти, но дома обитало штук десять книг, выученных наизусть. Часто я прижимала их к груди, как лучших друзей. В библиотеке у меня случился взрыв мозга. Я не подозревала, что книг может быть так много, все они казались мне прекрасными, и каждую я жаждала прочесть. Поскольку дворец книг располагался в шаговой доступности, мама или сестра водили меня в него, и я самолично выбирала сокровища.
Мне понравилась библиотекарша Валентина Васильевна. Она выписала читательский билет – звучало волшебно – и выдала одну книгу. По законам библиотекарского мира читатель сначала доказывал свою ответственность к переплетённым реликвиям.
– Прочтёшь и выберешь новую книгу, – ласково сказала Валентина Васильевна. – Книги мы выдаём на десять дней.
Дальше началось сплошное волшебство. Никакие конструкторы, никакие мультфильмы – ничто не могло сравниться с удовольствием читать. Я влюбилась в тексты, каждая буква казалась объёмной, 3D-шной, каждый персонаж – живым, каждое слово – персонажем. Раньше я не подозревала, что существует так много слов и насколько они магические.
До времени, когда я начала писать свои тексты, было ещё очень далеко. Да и в тех книгах, которые я читала «запоем», я мало что понимала.
Никогда не любила сказки про вундеркиндов, которые сочиняют с трёх лет, в пять понимают Дон-Кихота и покоряют небоскрёбы университетов в двенадцать.
Я испытывала физическое наслаждение от процесса чтения, от возможности убежать в другой мир, с красноармейцами, фашистами и партизанами. В страшные немецкие сказки братьев Гримм, в сладкие непонятные тексты Шахерезады, в холодные истории сдержанной шведской тетеньки – мамы Карлсона – и, конечно, в Пушкина.
Все книги рождали вопросы, на которых не было ответов.
Почему витязи выходят из воды?
Как дяденька живёт с пропеллером? Дяденька с пропеллером – карлик? Дяденька-карлик с пропеллером, который бомж?
Почему странная английская девочка упала в дыру, стала бегать за кроликом и жрать всё подряд?
У меня – ребёнка истории боевых партизан-разведчиков и других советских героев вызывали больше уважения, чем странные поступки странных персонажей. Удовольствие от сказок я стала получать, став молодой женщиной.
Впрочем, понятности и непонятности не имели большого значения, потому что я до умопомрачения влюбилась в тексты, и библиотека стала моим храмом, моей Меккой, моим святилищем.
Когда я наконец научилась потихоньку передвигаться по улице самостоятельно, то начала ходить туда каждый день. Я подружилась с библиотекаршами. Хорошо помню одну из них – Елену Сергеевну, жену офицера, которую нелёгкая занесла в Бийск. Я ходила к ней поболтать о жизни. Странно, но все тётки-библиотекарши любили общаться со мной. Жалели девочку-инвалида, наверное.
Кроме библиотекарш в моей жизни появились учительницы.
Не люблю, когда их называют училками, – в моём идеальном детстве учителя воспринимались как полубоги, к ним относились с уважением и почтением.
Мою первую учительницу звали Алевтина Николаевна. Она приходила ко мне два раза в неделю. Алевтина Николаевна пахла сиренью. Очень поразилась, что я уже умею читать, знаю цифры, сложение и вычитание. Мы с сестрой постоянно играли в «школу», и Леночка обучила меня «грамоте».
К первому классу я прошла «подготовительную школу» с помощью сестры. Единственное, чего я не умела, – писать. Только печатными буквами и медленно. Писать я ненавидела. Злилась на скользкие ручки и карандаши, которые не подчинялись моей спастичной правой руке. Буквы, я так любила вас читать и так возненавидела вас писать!
На «уроках» я внимательно слушала Алевтину Николаевну. Я всегда внимательно слушала учителей. Если внимательно слушать, можно сэкономить время, не зубрить и слыть отличницей, не прилагая особых усилий. Просто на следующем уроке я пересказывала то, что мне излагали на предыдущем, плюс демонстрировала неподдельный интерес к какому-нибудь факту.
Моё любопытство и отличная память создавали у педагогов иллюзорное представление обо мне как о прилежной девочке, которая долго и упорно готовится к урокам. На самом же деле я только и делала, что читала библиотечные книжки.
Выводить на бумаге буквы я терпеть не могла. А у моей мамы был пунктик по чистописанию, поэтому русский и математика стали для меня дополнительной пыткой, вдобавок к гимнастике. Мама была неуклонна и неумолима. Если я делала помарку, она выдирала лист и заставляла всё переписывать. Таким образом, тетради худели, но к ним добавлялись новые листы – мама отгибала скобы и вставляла в середину чистые. А когда моя писанина переваливала за половину тетради, мама её сшивала и расшивала, сшивала и расшивала.
К слову, в санаториях, где я пребывала с сентября по ноябрь и с января по март, отличницей я совсем не считалась. Всё из-за того же чистописания. А в целом обучение мне нравилось – я любила учиться, и люблю до сих пор.
После четвёртого класса вместо одной учительницы я получила целю обойму преподавателей. В этом плане моя система образования ничем не отличалась от обычной средней школы. Каждый день у меня был урок – моя жизнь стала более разнообразной. Плохих учителей я не встретила – все интересно рассказывали о своих предметах, о своей жизни и относились ко мне с симпатией. Прилежную девочку педагоги любили. Некоторые даже хотели повлиять на моё мировоззрение.
Однажды учительница геометрии увидела на мне крестик.
Я думаю, бабушка принесла его из храма. Она иногда ходила в храм. До этого случая я носила крестик постоянно под одеждой. Даже в санатории, я помню, никто не обращал внимания. Крестила меня мама, мы с ней окрестились в один день.
Мне не было и года, когда мама пошла в храм. Там священник спросил её, крещёная ли она сама. Мама ответила:
– У нас в селе был храм. Его построил мой прадед. Потом, после революции, большевики его разрушили. Некрещёная я…
Священник оттопырил карман и сказал:
– Давай три рубля.
Так нас с мамой окрестили.
В тот злосчастный день на уроке геометрии крестик неожиданно выскользнул из-под ворота платья и явил себя миру, то есть учительнице.
Сие очень возбудило её, и она, вроде как бы желая застегнуть верхнюю пуговку у меня на платье, ловко подхватила латунный крестик на чёрной верёвочке и спросила:
– А что это у тебя?
– Бог, – честно ответила я.
Мы снова переключились на прямые и косые углы. После я ничего не сказала маме – а что такого?
На следующем уроке учительница геометрии принесла мне книжку, далёкую от изучения пространственных структур. Книжка была с картинками про пионеров и про вред ношения нательных крестов.
– Вот, почитай, а на следующем уроке мы с тобою про это поговорим.
– Хорошо, – согласилась я, не чувствуя подвоха.
Почитала и показала домашним.
Мама разозлилась, бабушка начала упрашивать крестик снять:
– Люда, снимите от греха подальше, а то заклюют девчонку!
Я заплакала.
В результате мы сняли крестик и убрали распятие, которое хранилось у нас в серванте «от чужих глаз». По настоянию бабушки – она боялась. Её деда и отца сослали на «беломорканал» за строительство маленькой деревенской часовни. Бабушка испугалась учительницы геометрии.

