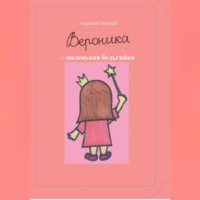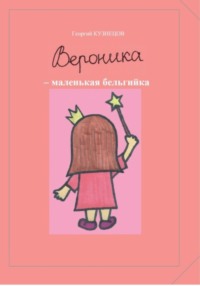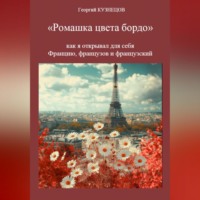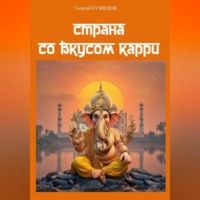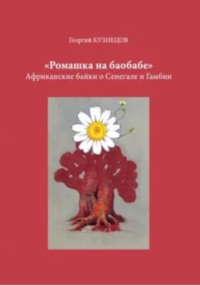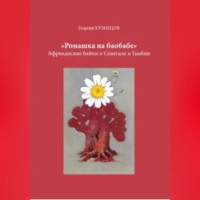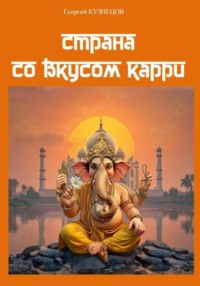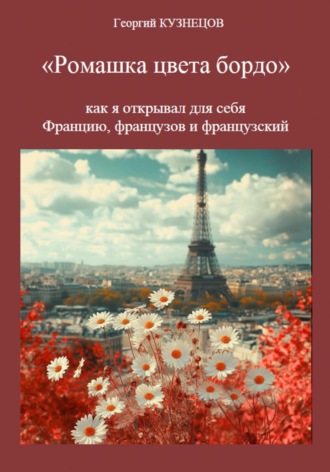
Полная версия
Ромашка цвета бордо
Конечно же, это не означало, что отныне наичестнейший, идейный профессор-коммунист мог поставить экзамены «автоматом», всё равно пришлось зубрить много материала, вникать в описание функций президента, премьер-министра, правительства, обеих палат парламента Индии, а затем воспроизводить это всё на бумаге, но хотя бы мне в зачёт шли самые нижние пороговые значения требовавшегося «листажа». И пару раз в тексте желательно было упомянуть имена классиков из известного списка. Чтобы наверняка!
Спасибо Ленину, пригодился на моём пути к миру франкофонии!
Общага
JNU занимал огромный по площади кампус. Это был довольно современный и, по индийским меркам, более чем ухоженный мини-город. Масштабные, местами даже красивые здания из красного кирпича – по всей видимости своеобразная отсылка к Красному Форту, расположенному в центре старого Дели.
Лингвисты, правда, учились не на основной территории, а в отдельном здании так называемого Нижнего кампуса, ещё более технологически продви-нутого, оборудованного хорошими лингафонными классами. На основную территорию попадали лишь на общие лекции.
Из интереса однажды напросился в гости к одному из одногруппников, который обитал в общежитии. Здесь меня ожидал определённый шок-контент.
Комнаты размером в считанные квадратные метры. Места хватало лишь на уложенный на бетонный пол двуспальный матрас и узкий проход сбоку к балкону. Немногочисленные личные вещи развешаны на гвоздях или разложены на прибитых по периметру полках. Скромный балкончик использовался в качестве кухни: там у студентов стояли газовые горелки, примусы или простенькие электроплиты на одну-две конфорки и лежала посуда.
Уборные и душевые – единые на огромный этаж. Многие по этому поводу не «парились» и неделями не мылись и не стирались, а малую нужду справляли с балконов или в окружающих кустах. Вполне в духе местных традиций.
Проживало в таких клетушках по три человека. На вопрос, как они там помещались и спали, ребята объясняли, что происходило всё предельно чётко: сон исключительно на боку и ориентация в одну сторону. Во имя справедливости была введена определённая ротация. Так, первую ночь один спал с краю, второй посередине, третий у стены. На вторую ночь тот, который был с краю, перемещался к стенке, от стенки – в середину, «серединный» – на край. На третью ночь, как можно догадаться, поспавший накануне у стенки передвигался в центр, из середины выдвигался на край, а с краю – к стенке. Подобный круговорот проделывался постоянно. Эдакая близость общения сплачивала «сокамерников» и позволяла удовлетворять различные возникавшие время от времени естественные потребности к обоюдному удовольствию. Подробности, о которых можно было догадаться, я предпочёл не выспрашивать. Зато перестал удивляться, почему мужчины в Индии любят ходить за руку друг с другом. Это особенно бросалось в глаза, когда зрители парочками расходились из кинотеатров после очередного сеанса. Скорее всего, друзья по общежитию, не иначе.
Меня вынесло из общаги, и больше я туда не ходил, хватило ознакомительного посещения. Зато, когда я сам оказался обитателем студенческого кампуса в Париже, разместившись в малюсенькой, но одиночной комнате, не ныл, а наоборот очень ценил те условия, в которых оказался, мысленно содрогаясь от воспоминаний о реалиях и нравах в JNU.
Поступление
В JNU я проучился один год. За плечами осталось два интересных семестра, первый опыт студенческой жизни, какие-никакие знания и даже вполне приличный средний балл за первый курс, который, правда, никого не интересовал и служил для удовлетворения собственного тщеславия и амбиций.
Семья окончательно вернулась в Москву, где предстояло определяться с дальнейшей перспективой. К тому моменту большинство моих делийских школьных одноклассников уже училось в различных престижных вузах, но я был не особо сведущ относительно того, на что мог претендовать, и абсолютно не ориентировался в существовавших в российской столице учебных заведениях. В силу юности и наивности не занимался анализом особенностей преподавания предметов или сравнением факультетов и уж тем более не интересовался «весом» дипломов разных вузов и перспективами дальнейшего трудоустройства «когда-то очень нескоро». Полученная за окончание средней школы серебряная медаль едва ли в той ситуации могла на что-то повлиять.
Наличествовало необъяснимое, но стойкое желание продолжить начатое лингвистическое образование и освоение французского. В глубине души хотелось в суперпрестижный и от этого недосягаемый МГИМО, где оказалось несколько приятелей, но, трезво оценив свои силы, возможности родителей и отсутствие блата, соваться туда не решился. Ничего другого я особо не знал. В итоге с подачи моей тёти-франкофона выбор пал на другой известный вуз – Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), который она когда-то сама закончила.
«В народе» он всегда был более известен как «Инъяз Мориса Тореза». Примечательно, что имя французского политика и многолетнего лидера коммунистической партии Франции давно стёрлось из памяти широких масс населения как Франции, так и России и осталось, кажется, только в этом названии. Более чем уверен, что подавляющее число нынешних студентов университета понятия не имеет, кем был этот самый Морис Торез.
МГЛУ сложно назвать конкурентом МГИМО, однако выяснилось, что до переезда последнего в новый учебный комплекс на Проспекте Вернадского в 1985 году будущие дипломаты учились на Метростроевской улице (нынешней Остоженке), буквально в считанных метрах от инъяза, в здании, которое сейчас занимает Дипломатическая академия. Подобное соседство приводило к… многочисленным бракам мгимошников, активно и небезуспешно искавших жён среди студенток тогдашнего МГПИИЯ им. Мориса Тореза (Московского государственного педагогического института иностранных языков). Брачные альянсы складывались идеальными: мальчик-дипломат и девочка-педагог, оба со знанием пары иностранных языков. Готовые молодые специалисты для работы за рубежом.
Самонадеянно решил поступать на факультет французского языка, рассудив, что в МГЛУ с более редким французским пробиться легче, чем с английским, и конкурс на педагогическом факультете должен быть меньше, чем на переводческом.
В обоих своих чрезмерно наивных предположениях жесточайшим образом ошибся. Во-первых, поступал вместе с девочками, которые являлись выпускницами лучших французских спецшкол Москвы и области и изучали язык со второго класса. Мои имевшиеся в активе два доблестных семестра в индийском университете явно не дотягивали до их уровня, хотя осознание сего факта дошло до меня далеко не сразу.
Во-вторых, конкурс оказался значительно выше именно на педагогическое отделение и в тот год был просто сумасшедшим, а набор на дневное отделение – всего 25 человек. Единственное, с чем угадал, это неоспоримое преимущество гендерного характера: мальчики на факультете французского языка были большой редкостью и даже экзотикой. В тот момент лишь один учился на четвертом курсе, а двое, включая меня, поступали.
Я прибыл в Москву лишь за пару месяцев до вступительных экзаменов. Предстояло срочно найти репетиторов, которые согласились бы за меня взяться, натаскать за столь короткий срок и гарантировать хоть какой-то результат. С трудом, через подружку моей тёти, которая сама учительствовала, уговорили троих преподавателей: по французскому, русскому и истории. Занятия проходили каждый день, ночами зубрил материал, а мотаться приходилось на метро в разные концы города. Это, наверное, стало самым стрессовым моментом, ведь за четыре года в Индии я отвык от ритма большого города и довольно натужно, особенно на фоне постоянного недосыпа от зубрёжки, переносил подобные перемещения в пространстве.
Довольно обескураживающими оказались и первые озвученные репетиторами вердикты: мальчик неплохой, только ссытся и глухой только уровень знаний не соответствует высоким критериям претендента на место в благословенном МГЛУ.
Мой французский, как выяснилось, не только откровенно отставал от программы спецшколы (что, если честно, не стало столь уж убийственным откровением), но и на слух звучал чудовищно, отдавая всей палитрой последствий индийского и квебекского влияний.
Историю за год, прошедший после окончания школы, я основательно подзабыл (возможно, вообще до такой степени и не знал), однако основные исторические вехи страны, хотя и натужно, но худо-бедно озвучивал.
Написание заковыристых диктантов на русском априори мало кому давалось легко, поэтому мой случай оказался печальным, однако не самым безнадёжным.
Короче, клиент был скорее жив, чем мёртв. Стоило побороться за бюджетное место под солнцем российского высшего образования.
Ни один из преподавателей никаких обещаний не давал, они лишь горестно вздыхали при виде моих потуг. Тем не менее, никто от меня не отказался, исправно брали деньги и на совесть отрабатывали их, усиленно вдалбливая в мою посттропикозную голову всё, что можно было в неё вложить за столь короткий период. Свойственные мне зачатки ума и сообразительности начали приносить первые скромные плоды: по прошествии некоторого времени в глазах репетиторов стали проскакивать признаки если не удовлетворения, то надежды на более-мене благополучный исход казавшегося безнадёжным предприятия. Я усиленно набирал лексику и подтягивал грамматику, перестал путаться в исторических датах и российских царях, начал писать диктанты не на «кол», а на стабильную «тройку».
К вступительным экзаменам подошёл, как говорят спортсмены, на пике формы (насколько это вообще было возможным в сложившихся условиях). В моей черепной коробке булькали свежеполученные знания в сильно концентрированном виде. Задача состояла в том, чтобы не успеть расплескать их в самый ответственный момент.
Первым экзаменом значился французский. Его я сдал на максимальные 6 баллов. Да-да, это не опечатка, высшей оценкой за язык действительно была не «пятёрка», а «шестёрка». Эдакая скрытая «фишка» приёмной комиссии. Отвечал я на максимуме своих скромных возможностей. Сейчас уже не вспомню, о чём меня спрашивали, но я очень старался. Помогло то, что среди «революционной тройки» экзаменаторов сидела моя репетиторша, которая не только морально меня поддерживала и выразительными взглядами упреждала отдельные ошибки, но и явно настроила мнение своих коллег в мою пользу. Меня откровенно пожалели, решив не срубать на первом же испытании практически единственного мальчика, и поставили высший балл неким авансом. Второго кандидата мужского пола, кстати, дальше первого этапа не пропустили, поставив вполне приличную, но недостаточную для поступления «четвёрку».
История стала вторым Рубиконом. Она прошла «на ура». На этом предмете мне сопутствовала гораздо бóльшая уверенность в собственных силах, к тому же попался сравнительно лёгкий билет. Я быстро подготовился и бойко оттараторил что-то про основные преобразования времён Екатерины II, а затем, раздухарившись, даже выдал некую фривольность, в качестве дополнительного материала рассказав про роль в истории её многочисленных фаворитов. Экзаменаторы, среди которых, к моему удивлению и радости, оказался мой старичок-репетитор, выглядели довольными и без особых видимых раздумий поставили заслуженную оценку «отлично».
Финальным испытанием, от которого всё зависело, стоял русский язык. Почему-то я совершенно не нервничал, что, на самом деле, не слишком на меня похоже. Видимо, сказывалась сильная эмоциональная усталость последних месяцев, которые ознаменовались сменой страны и климата, заменой привычных продуктов, убыстрением темпа жизни, бешеным ритмом подготовки к поступлению, обилием обрушившейся в одночасье информации. Организм едва успевал справляться со всеми вызовами и перед последним рубежом неожиданно перешёл в режим «дзен».
Предложенный абитуриентам диктант по русскому языку в сравнении с теми экзекуциями, которые мне на протяжении двух месяцев непрестанно устраивала жёстко натаскивавшая меня старушка-процентщица преподавательница, почему-то показался лёгким, и я заработал свою честную «четвёрку», сделав лишь одну ошибку.
В итоге я набрал 15 баллов, которые стали проходными. Сложно было поверить в произошедшее. Мне кажется, я даже полностью не осознавал степень своего везения и удачи. Скорее, накрыло чувство внутреннего опустошения, когда наконец-то дошёл до далёкой цели, а она оказалась лишь началом другого пути.
На дневное отделение взяли всего ровно обещанные приёмной комиссией 25 человек – штучное, уникальное, чуть ли не эксклюзивное производство будущих преподавателей французского языка. Я вполне предсказуемо оказался единственным представителем мужского пола среди моих однокурсниц. Сразу подумалось, что затеряться среди такого контингента не удастся и придётся вдоволь попотеть, чтобы прийти к финишу. Как в воду глядел.
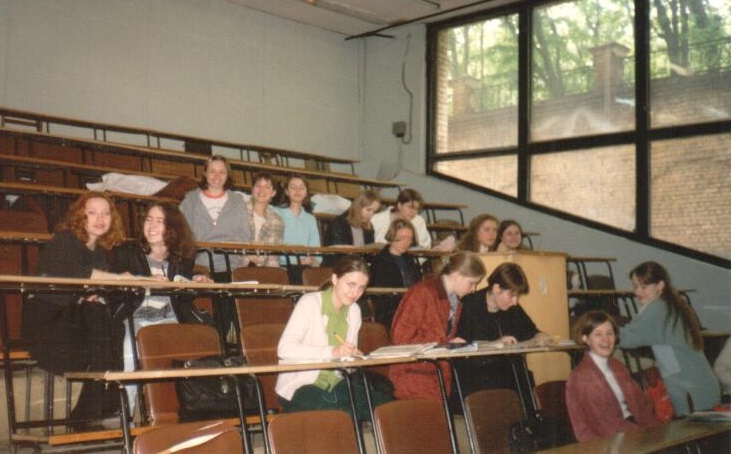
Первый курс, всё только начинается
Часть II Юность лингвиста
Парле-ву франсэ?
Так в 1996 году я стал студентом МГЛУ.
Стать-то я им стал, но вот соответствовать требуемой планке оказалось ой как непросто! На занятиях по языку я во всём довольно существенно отставал от девчонок. Некоторым из них, особенно тем, кто вполне прилично владел французским при поступлении (а таковых было большинство), первые пару курсов было откровенно скучно. Более того, многие уже побывали к тому времени во Франции, поэтому зачастую могли рассказать про изучаемую страну больше и интереснее иных преподавателей. Меня же от полного фиаско спасали некоторая оригинальность мышления, призванная хоть как-то попытаться завуалировать вопиющие лакуны в знаниях, творческий подход к выполнению заданий, невесть откуда взявшийся артистизм, приятный баритон и покладистый характер. Преподаватели по основным профильным предметам откровенно жалели меня за очевидные старания, маниакальную работоспособность, усердие и неконфликтность. Первые два года я пахал изо всех сил, как проклятый, постепенно, но вполне очевидно сокращая имевшееся отставание, заполняя пробелы в подготовке.
На первом курсе очень помогло то, что первые месяцы у нас был вводно-коррективный курс по фонетике. Всем поголовно ставили или подправляли произношение. Мне в этой ситуации даже оказалось чуть легче, чем девчонкам, которые за годы занятий языком приобрели какие-то устойчивые навыки, менять которые было довольно сложно. Некоторых жёстко «ломали», дело доходило до соплей и слёз. Я же впитывал новые знания подобно губке, безболезненно адаптируясь под любые требования, беспрекословно повинуясь указаниям наставников. Часами сидел в лингафонном классе и отрабатывал дикцию и произношение, тренировал мышцы лица для получения французского звучания.
В ход шли упражнения с маленьким зеркальцем, карандашами, камушками, как в старом американском фильме «Моя прекрасная леди». Со стороны мы походили на кривляющихся мартышек, но смешно было лишь первые пару занятий. Затем наступала тяжёлая расплата в виде изнурительных отработок отдельных звуков и слов, связок и интонационных моделей. Все мышцы лица болели невероятно. Французы обладают довольно чёткой артикуляцией. Обратите внимание, насколько жилистая у них, как правило, нижняя часть лица. Как четко они «пропечатывают» каждый звук. Русский язык не требует такого напряжения, мы говорим спокойно, порой едва шевеля губами. Французский подобной вопиющей расслабленности не терпит и не прощает.
Нередко «выезжал» за счёт довольно приятного низкого тембра голоса. Фонетички (дамы в основном одинокие и не самого юного возраста) млели, когда после череды девичьих голосков звучал вполне мужественный баритон. Оборотной медалью стало их искреннее, но иногда чуть не маниакальное стремление добиться от меня идеальной чистоты звучания, как у их любимых Ива Монтана, Шарля Трене, Жоржа Брассенса и других звёзд французской эстрады середины ХХ века, в котором наши преподавательницы и застряли. Мне не позволяли ни малейшей халтуры, вновь и вновь заставляя усиленно отрабатывать очередные упражнения. Возились со мной, наверное, больше, чем с девочками, у которых, к тому же, с произношением изначально проблем было на порядок меньше. Они быстро и профессионально с корнем повыдирали весь мой индийский фонетический багаж и самозабвенно лепили из меня «француза». За это до сих пор безумно им благодарен и регулярно вспоминаю, когда настоящие французы интересуются, из какого я региона, а не из какой страны. Многие носители языка отказывались мне верить, что я изучал французский в далёкой Москве, а все преподаватели были русскими. Кстати сказать, до конца второго курса я ни разу не видел ни одного живого француза.
Помимо фонетики усиленно зубрил спряжения глаголов, запоминал новую лексику, пытался разговориться, преодолевая природную скромность. Языковые группы на нашем факультете были крошечные, по 8-9 человек, поэтому спрятаться, как и предполагал, не было никакой возможности. Даже на общих лекциях и семинарах, на которых присутствовал весь курс, отсидеться за спинами других было проблематично. Так что приходилось относиться к учёбе максимально ответственно и серьёзно. Каждый пропуск занятия замечали все, так как этим ты подставлял всех остальных, на которых волей-неволей пропорционально перераспределялась (читай – добавлялась) нагрузка, устанавливаемая преподавателем. Явка – вообще один из фетишей МГЛУ. Со злостными прогульщиками здесь во все времена расставались быстро, без сожаления и душеспасительных бесед. Нет желания ходить на занятия – вон.
Сложнее всего давалась грамматика. Здесь голос не «прокатывал». Она наличествовала в двух ипостасях: теория грамматики и её практика. МГЛУ является не только кузницей кадров, но и научным центром, практически все преподаватели не просто вели свои предметы, но и осуществляли научную работу, писали статьи и издавали учебники, которые на нас же и опробовали. В какой-то момент поймал себя на мысли, что подавляющее число изданий, представленных на полках учебной литературы по французскому языку в московских книжных магазинах, принадлежало перу знакомых лиц.
Теорию грамматики вела крайне энергичная, напористая и склонная к разряжавшим атмосферу смелым шуточкам Елена Александровна Рощупкина. Она, в частности, запомнилась фразой «Vous voulez ma mort, ma chérie!» («Милочка, вы хотите моей смерти!»). Произносила её она при малейшем удобном случае с максимальной патетикой и деланым возмущением, смотря с нарочитым укором на провинившуюся студентку поверх очков, которые постоянно сползали на кончик её носа. На меня эта фраза не распространялась. Возможно, мужской вариант окончания «mon cher» ей меньше нравился. Шутки шутками, а материал Рощупкина в нас вдалбливала мощно, с пожизненной гарантией.
Практическую грамматику на протяжении всей учёбы у меня вела великолепный специалист Надежда Борисовна Кудрявцева. Мегапрофессиональная, чёткая, конкретная, собранная, требовательная и жёсткая. Мы её одновременно жутко боялись и неимоверно уважали. Немилосердно тряслись, когда она начинала говорить подчёркнуто безадресно, ледяным тоном. Это означало, что мы вновь безбожно накосячили и крайне её разочаровали, что было стыдным. Она никогда не позволяла себе повысить голос или как-то оскорбить, но её чрезмерное спокойствие было страшнее любого крика.
Помню, я ей жутко не понравился на первых занятиях. Она, со свойственной ей прямолинейностью, даже не пыталась это скрывать. Превыше всего Кудрявцева, как подлинный профессионал, ценила знания, коих у меня не было и в помине. Меня же она посчитала слабым звеном, на которое не стоит тратить время. Полагаю, она рассудила, что я скоро «сольюсь». Но мальчонка оказался на удивление настырным и трудолюбивым, упорно продирался к знаниям и постепенно начал демонстрировать некие достижения. В итоге писал диплом именно у Кудрявцевой. Причём она сама предложила мне поработать вместе. Это означало заслуженное мной уважение с её стороны, что стоило очень дорогого.
Из преподавателей лексики запомнилась Мадам Спасская. Она относилась в категории тех, кто обкатывал на нас свои новые наработки. Как раз появился новый прогрессивный и чуточку новаторский учебник её авторства, что вылилось в крайнюю интенсивность проводившихся ею занятий. Меня она полюбила, но странною любовью – постоянно то ли троллила, то ли заигрывала. Это выливалось в то, что я оказывался перманентным объектом допросов с особым пристрастием. Поэтому пришлось усиленно осваивать лексику. Вполне успешно.
Всему этому напору мы противостояли довольно сплочённым, в том числе поневоле в силу вышеописанной немногочисленности, коллективом.
Так сложилось, что большинство одногруппниц ходило со смешными или милыми прозвищами: Муха, Крястя, Мороз, Зубилка, Урса, КатьЯна. Со стороны могло показаться, что речь идёт не о языковой группе в элитном столичном вузе, а о пребывании «на зоне» и тюремных «погонялах» опытных зэков.
Ума не приложу, откуда пошла эта традиция, но, уверяю вас, обидного в них ничего не было. Мухой звали Юлю Михайлову за вечную активность и неугомонность. Урса – это Анечка Медведева, а само слово созвучно французскому слову «ourson» (урсон – «медвежонок»). Крястя – уменьшительный вариант имени Кристина. «КатьЯна» – общее имя для двух неразлучных подружек Кати и Яны. Странно, но я до прозвища так и не дорос.
Не французским единым
Зато ничуть не хуже (правда, следует признать, и не лучше), чем у других, шли общие дисциплины: латынь, французская литература, история Франции, языкознание, философия. Страдали все одинаково, что невероятно сплачивало коллектив.
Например, ненависть к латыни, которой нас нещадно насиловали весь первый курс, породила целый пласт доморощенного фольклора. Преподавателями были две весьма возрастные дамы. Первой была высохшая, внешне в высшей степени интеллигентная старушка малюсенького роста, нагонявшая на нас страх и оторопь, – профессор по имени Нина Лазаревна Кацман. На самом деле она являлась видным лингвистом и автором бессчётного числа учебников. Но бестолковым первокурсникам до её регалий не было никакого дела. Перед нами стояла задача не вылететь на первом же году обучения из-за этой зубодробительной латыни (а таких примеров существовало немало), прорваться сквозь дебри книги Юлия Цезаря «Записки о Галльской войне», которую мы читали, и научиться обнаруживать в текстах все злосчастные аблятивусы абсолютусы. Для непосвящённых – ablativus absolutus являет собой особый синтаксический оборот латинского языка, широко распространенный в текстах и представляющий большую сложность в изучении, поэтому считался чуть ли не ругательством, ибо одно лишь его упоминание бросало приличных людей в дрожь. В качестве оммажа Цезарю перед экзаменом у Нины Лазаревны мы украдкой крестились и приговаривали «Ave Katzman, morituri te salutant!» («Да здравствует Кацман, идущие на смерть приветствуют тебя!», переделанная оригинальная классическая фраза с именем Цезаря).
Второй была чуть более молодая, но от этого ещё более энергичная, беспощадная и непримиримая Нина Родионовна Шопина. Она нас драла, не стесняясь в выражениях и оценках степени нашей «одарённости». Порой складывалось впечатление, что в ответ на очередные выдававшиеся нами полубредовые опусы она просто набросится и легко поколотит своими сухонькими и острыми кулачками. Естественно, на фоне такого образа никто её по фамилии не называл, предпочитая скромно заменять первую букву на «ж».
Зато нас настолько натаскали на латыни, что даже по прошествии десятков лет, к собственному удивлению, порой выдаю вполне грамотные латинские сентенции, всплывающие из глубин памяти. Особенно это нравится французам, которые тоже любят при случае козырнуть какой-нибудь крылатой фразой авторства очередного древнеримского философа, писателя или поэта. Так, выходит, мучился не зря. Хотя случается, и бормочу под нос инъязовскую приговорку «Lingua latina – magna skotina». Перевод, полагаю, излишен, и читатель догадается, что скрывается за этой игрой слов.
Насколько мне известно, у студентов первых курсов технических вузов главный кошмар первого года обучения – это сопромат (физико-математическая дисциплина «сопротивление материалов»). Недаром существует народное изречение «Сопромат сдал – жениться можно». У лингвистов таких кошмаров два: помимо упомянутой выше латыни в эту устрашающую категорию входит также языкознание. У всякого человека, закончившего лингвистический вуз, при упоминании фамилии А.А.Реформатского начинает дёргаться глаз. Его эпохальный труд «Введение в языкознание» с классификацией языков по семьям – это форменное проклятие, боль, слёзы и сопли поколений «грызунов науки» от лингвистики. Сей тяжкий крест, однако, мне, в отличие от латыни, удалось вынести безболезненно.
Особняком стоял русский язык, который вёл этнический узбек, при малейшей возможности гаденько или по-иезуитски вкрадчиво стыдивший и унижавший нас за незнание родного языка. Мол, вы, русские, не ведаете элементарных вещей. При этом к числу откровенных и безнадёжных неучей ни одного человека из нашей компактной академической группы отнести было нельзя.