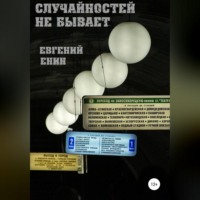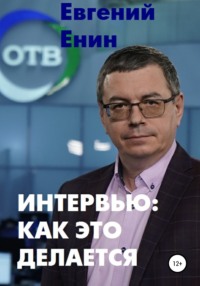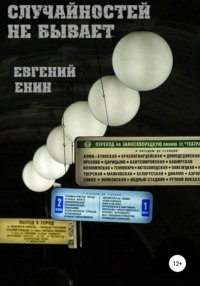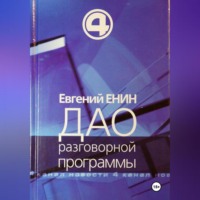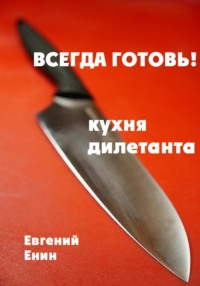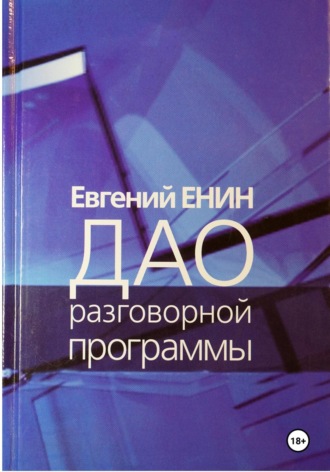
Полная версия
Дао разговорной программы
Гостю может позвонить служба координации, если ведущий чем-то очень занят или уехал куда-то.
Но в основном звонит сам ведущий.
Тем более если звонить приходится статусным людям, с которыми давно уже знаком, этикет блюсти надо, приглашение должно быть личным.
Как уговорить гостя прийти, если он не хочет в эфир?
Не не может прийти – тут уж ничего не сделаешь, – а не хочет. Ему лень. Он чего-то боится. Ему это не интересно, не нужно.
Первое.
Лесть.
Второе.
Объяснить, что он получит возможность сказать то, что он на самом деле думает, потому что в сюжетах в новостях все равно переврут.
Третье.
Если скандал какой-то, то объяснить, что если он не придет, придет другая сторона.
Четвертое.
Позвонить его начальнику.
Что делать, если гость не пришел?
Это бывает.
Если гость, который дал согласие прийти, вдруг часиков этак в семь вечера звонит и говорит, что у него что-то случилось, попытаться пригласить кого-то другого, конечно, можно. Но только попытаться. Опыт показывает, что это безнадежное занятие. На такие случаи мы стараемся держать какие-то «консервы», записанные разговоры, темы которых не привязаны ни к каким событиям.
Стараемся, да. Как же. Но чаще всего ничего уже непоказанного нет. Тогда в эфир ставится повтор.
Что делать, если гостя не нашли?
То же самое – повтор.
Относительно недавно договорились, что хороший повтор лучше плохого прямого эфира. Всегда набирается какое-то количество хороших «Стендов», несобытийных, с известными людьми, и просто жалко, что они только один раз были в эфире. Лучше три раза показать разговор с Галиной Вишневской, чем что-то заведомо неинтересное, но привязанное к сегодняшнему событию.
Можно ли попасть на «Стенд» за деньги?
Можно.
Ужас, да? Какие тайны выдаю!
Во всех разговорных программах бывают гости, которые платят за свое участие. Только мы этого не скрываем и не берем «черным налом». Все легально, договор, касса и надпись: «На правах рекламы» – на заставке.
Нам, как мне кажется, удалось отработать схему, которая позволяет показывать «платных» гостей, ничем не поступаясь и, самое важное, не нанося никакого ущерба зрителям. Наоборот, принося пользу.
Главное правило.
Мы никого не возьмем в эфир за деньги, если не за деньги мы его не возьмем.
Половину телеканалов Екатеринбурга нужно закрыть
Лучше бы, конечно, без этого обойтись. И работать, как птичка поет, интересно – берем гостя, неинтересно – не берем, о деньгах не думаем. Но региональные каналы, в отличие от федеральных, очень часто работают на выживание. Плюс особенность Екатеринбурга: огромная телевизионная конкуренция. Можно, конечно, гордиться тем, что у нас каналов больше, чем в Москве, но рекламные бюджеты и журналисты, кстати, размазываются по этим каналам тонким слоем. Сократить хотя бы вполовину, началась бы в нашей «деревне» совсем другая жизнь.
Нет, серьезно, у нас слишком много игроков для нашего рекламного рынка. В результате – маленькие бюджеты. Делать телевидение – это все-таки дорого, а мы же конкурируем не только друг с другом, но и с федеральными каналами, мы для зрителей только кнопки на пульте дистанционного управления: щелк – НТВ, щелк – «Первый», щелк – «Четверка», щелк— «Россия». Тут передача, тут передача, тут передача, и никому не интересно, что мы можем сделать так же, как и в Москве, можем купить такие же фильмы, но это не окупится, потому что стоимость минуты рекламы отличается в разы.
Еще одна проблема: в городе с двумя журфаками категорически не хватает хороших журналистов. Куда деваются те человек сто, которые каждый год заканчивают факультеты журналистики УрГУ и Гуманитарного университета, – это загадка. Но хороших журналистов в свободном доступе нет, и репортерам нет нужды держаться за рабочее место, если что – их с радостью возьмут на другой канал. А если еще и с
«Четверки», то с огромной радостью. Сократилось бы волшебным образом количество телеканалов в Екатеринбурге раза в два, а лучше – в три, мы стали бы не второй телевизионной столицей России, а первой.
Разговорная программа, гость платит за участие: правила игры
Пока мечты не сбылись, отказываться от дополнительной прибыли региональные каналы не могут. Речь не только о нас. О всех. Другая сторона медали – огромный спрос на участие в разговорных программах. Люди хотят платить деньги за свое появление на экране.
Логика участия в «платных» программах. В диалогах.
Звонит человек, говорит: «Вот такая тема, хотим поучаствовать».
Мы говорим: «Да, это интересно, но сейчас у нас есть более интересные темы, как только не найдется темы интереснее, чем ваша, мы вас позовем». И это не попытка «выбить» деньги. Действительно, позовем. Нам отвечают: «Мы не можем ждать, у нас такого-то числа что-то там открывается». Мы говорим: «Хорошо, но наш рейтинг будет не таким высоким, каким мог бы быть, это скажется на поведении других рекламодателей, мы можем понести финансовые потери, если вы готовы это компенсировать, тогда пожалуйста».
То есть человек платит за то, чтобы не стоять «в очереди».
Другой звонок: «Вот такая тема, хотим поучаствовать». Мы говорим: «Прекрасно, это интересно, приходите». – «А можем ли мы в эфире сказать номер телефона, название фирмы?» Мы отвечаем: «По закону это можно делать только на правах рекламы. И это уже на самом деле будет прямая реклама. Что стоит определенных денег». – «Да, конечно, нет вопросов». Или: «Нет, тогда мы не будем называть номер телефона».
В этом случае платят за возможность назвать номер телефона, так же как платят за любую другую рекламу на телевидении.
Еще звонок: «Вот такая тема, хотим поучаствовать».
Мы говорим: «Да, это очень интересно, но об этом могут рассказать еще тридцать два человека, причем шестнадцать из них более известны, чем вы, рейтинг разговора с ними будет выше». – «Нет, я хочу, чтобы меня позвали, я готов за это заплатить».
Человек, вернее организация, платит за то, чтобы в эфир попал ее представитель, а не представитель конкурентов.
Разговоры эти условные, конечно, это не стенограмма, это просто воспроизведение логики «попадания» в разговорную программу за деньги.
Купить ведущего
Заметьте, ни в одном случае никто не «покупает» ведущего, не «покупает» вопросы, которые будут заданы. Деньги платятся за возможность не ждать, возможность назвать номер телефона, за то, чтобы о потребительском кредитовании рассказал представитель именно этого банка, хотя все банки продают деньги, но ни в коем случае не за какие-то особые условия в эфире. «Оплаченный» разговор для ведущего, абсолютно ничем не отличается от «неоплаченного». Если есть «неприятный» вопрос, ну скандал какой-то был с этой фирмой, я его задам. Даже так: тем более задам.
За деньги обязательно интересно
Вот очень важно: «за деньги» зрители получают гарантированно интересную и полезную программу.
Если я потом смотрю отчет TNS «Gallup Media» и вижу, что рейтинг ниже среднего, значит, я ошибся, не надо было брать эту тему.
Это «забесплатно» может быть и не интересно и не полезно. Ну, не нашли мы сегодня интересной темы, а эфир чем-то надо закрывать. Плохо конечно, но что делать, иногда бывает.
Если просятся в эфир за деньги, но я понимаю, что это неинтересно, в эфир не возьму. Зачем, если никто не будет смотреть? У нас же нет задачи взять деньги и сбежать, «Четвертому каналу» уже пятнадцать лет, «Стенду» десять лет, дай бог нам всем здоровья. Если тема неинтересна, потенциальному рекламодателю объясняют, что он выбросит деньги на ветер, ему лучше сделать рекламные ролики, дать объявление в
«бегущую строку», еще что-то. А не «выступить» перед аудиторией, состоящей из жены и подчиненных. Это элементарная честность по отношению к клиенту. Ну и азы маркетинга: один недовольный клиент отпугнет десятки других: я тут выступил по «Четвертому каналу» – и никакой реакции.
Самый дорогой эфир
Перед последними выборами мэра. Шестнадцать тысяч, если пересчитать на доллары, за двенадцать минут.
В «Новостях „Четвертого канала”» заказных сюжетов не бывает
Как и в «Итогах недели»
И не бывает исключений из этого правила.
Но судя по тому, как удивляются, когда звонят и спрашивают: «Сколько стоит у вас сделать сюжет?» и слышат в ответ: «У нас не бывает заказных сюжетов», – на других каналах другие правила.
«Джинса» в «Новостях Четвертого канала»
«Джинса» – это такая скрытая реклама, замаскированная, в случае новостей – под обычный сюжет, обычную информацию.
Понятно, что ни один нормальный канал не будет пихать в новости «джинсу», что называется, официально. Хотя и такое в Екатеринбурге бывало. Так что у нас в городе этот термин употребляется, если репортер берет деньги втайне от начальства. За что-то. За то, что этого показал в сюжете, а того не показал. За то, что снял сюжет про конфликт, когда огласка выгодна одной стороне и невыгодна другой.
На «Четверке» были, давно уже, попытки протащить в выпуск новостей «джинсу», в том числе успешные. Но их жестоко пресекали и виновных увольняли.
Как оценить, подходит тема для разговорной программы или нет?
Кажется ли она вам интересной, это первое. Как говорит Леонид Парфенов, «по ощущениям».
Второй пункт: многолетние наблюдения за рейтингом. TNS «Gallup Media» показывает рейтинг каждой отдельной программы, поэтому мы представляем себе, что интересно зрителям.
Еще, конечно, здравый смысл. Понятно же, что если в эфир просится Путин Владимир Владимирович, отказывать не стоит не только потому, что могут быть неприятности.
У меня есть такой способ оценки: если называется тема и у меня возникает сразу десяток вопросов, тема годится.
Цикличность тем
Знаете, это как у крестьян: сезонная цикличность жизни. Весной – посевная, летом – полевые работы, осенью – сбор урожая, зимой – отхожий промысел.
У нас весной – клещевой энцефалит, зимой – отопление, летом – дизентерия какая-нибудь, осенью – первое сентября.
Это темы. Которые каждый год.
Про особенности поведения самок энцефалитных клещей я могу рассказывать часами. От гриппа меня прививали в прямом эфире. А есть еще хоровод лиц.
Одни и те же гости
Общая проблема разговорных программ. Вернее, проблема их ведущих. Одни и те же лица. Посмотрите разговорные программы федеральных каналов – там, главным образом, Жириновский.
Есть сферы – образование, здравоохранение, политика, социальная защита и так далее. В каждой сфере есть специалисты, отвечающие за определенные направления. Есть обойма говорящих голов, спикеров. В результате кто-то бывал на «Стенде» пять раз, кто- то десять раз, кто-то – даже страшно подумать сколько. Сколько раз у меня был Николай Воронин, председатель областной думы? Дай бог, придет еще, потому что он ни разу не отказался, заранее зная, что на вопросы ему будет отвечать, скажем так, непросто. И ладно, если это политик и каждый раз про новый закон. Человек один, но темы разные. А если и человек тот же самый и тема та же самая, как и год назад, и два, и три?
Нет, понятно, что в прошлый раз про клещей смотрели одни люди, в этот раз смотрят другие, радуешься тому, что делаешь что-то полезное. Но если бы вместо энцефалитных клещей на нас напали гигантские сколопендры, говорить о них было бы чуть-чуть интереснее.
С этим можно только смириться. Появление незнакомого интересного собеседника для ведущего разговорной программы – именины сердца.
Кстати, Виктор Романенко, заместитель главного санитарного врача Свердловской области, великолепно изображает самку энцефалитного клеща. Полное перевоплощение.
Склероз
Необходимое условие для успешной работы ведущего разговорной программы – наличие у него легкого склероза. Чтобы каждый раз – с неподдельным интересом.
Подружиться с гостем
Можно ли дружить с гостями? Потенциальными? С теми, кто у тебя в эфире был, и ты знаешь, что, скорее всего или наверняка, снова будет позван?
Понятно, что, когда не первый год с человеком общаешься, может возникнуть, ну, дружба не дружба, но человеческие отношения, выходящие за рамки строго официальных «задающий вопросы» – «отвечающий на вопросы».
И вот вы с ним приятели, а потом этот приятель приходит в эфир и ему нужно задать вопрос чрезвычайно неприятный. Не задавать? Пожалеть? Рассориться? Насколько журналист должен быть «отстранен» от персонажей?
Ну не виноват я в том, что с Константином Карякиным, депутатом областной думы, лидером областной организации СПС, мы подружились в начале девяностых. И ходим друг к другу на день рождения. В баню. Кто виноват в том, что он пошел в депутаты, а я на телевидение? И что теперь, раздружиться – на время исполнения депутатских полномочий?
Но еще это ладно, так исторически сложилось, а если в процессе работы возникают отношения?
Например, мы не друзья с Вениамином Голубицким, который был министром госимущества, руководителем администрации губернатора, в баню вместе не ходили. Но у меня хорошее, не журналистское, просто человеческое к нему отношение. Хобби у нас одинаковые к тому же. Голубицкий сейчас в Москве, у Вексельберга, поэтому его берем для примера. У него ко мне, кажется, тоже хорошее отношение. Надеюсь. Может быть, играл. Политики, они такие. И ему это помогло? Нет. Мы ничего не оговаривали специально, но он понимал, и в этом я уверен, что в эфире каких-либо скидок «на отношения» ждать бесполезно.
То есть человеческие, дружеские, приятельские отношения с людьми, которые регулярно ходят в эфир, становятся персонажами сюжетов, у журналиста могут быть, как мне кажется, только при таких условиях. Когда есть понимание, что пощады не будет.
Предварительное интервью
Разминка такая.
Термин услышал от Владимира Владимировича Познера, президента Российской академии телевидения. Придумывать какой-то свой термин для обозначения прединтервью, технического приема, к которому приходят все ведущие разговорных программ, право же, незачем.
Прединтервью проходит в два этапа
Первый этап – это когда звонишь потенциальному гостю и приглашаешь его в эфир. Определяется, того ли ты человека зовешь. Вдруг тема разговора совершенно не его тема? Просто звонишь: «Иван Иваныч, тут у нас такое событие, можете ли вы прийти сегодня вечером на „Стенд” поговорить об этом?» Иван Иванович или согласится, или скажет: «Ну что вы, я этим не занимаюсь, а вот Иван Петрович как раз курирует это направление». – «Иван Петрович, тут у нас такое событие, можете ли вы прийти сегодня вечером на „Стенд” поговорить об этом?» – «Да, конечно». Гость найден. Начинается второй этап.
Второй этап прединтервью
Бывает двух типов.
Первый.
Иногда я встречаюсь с будущим гостем заранее. Когда я не разбираюсь в теме, когда гость не очень представляет себе, что такое участие в разговорной программе. Мы подробно обсуждаем будущий разговор – то, о чем мы будем говорить, он рассказывает мне о своем заводе, о своей проблеме, беседа может занять и час и полтора, притом что на выходе должно получиться двенадцать минут.
Второй.
Если же мне предмет разговора понятен, если я представляю, какие вопросы нужно задать, если я знаком с этим человеком, прединтервью происходит, когда гость уже приходит к нам на «Четвертый канал».
Я прошу гостей прийти за сорок минут до того, как мы должны войти в студию. Тут и люфт: вдруг пробки на дороге, и время, чтоб попить чай-кофе, поговорить. Провести прединтервью.
Что нужно узнать из прединтервью?
Правильно ли я представляю себе ситуацию.
Ну, допустим, какая-то политическая коллизия: «Так все было на самом деле сегодня?» – «Да, так». – «Вы на самом деле против этого закона?» – «Ну что вы, это же я его внес!»
Я перепроверяю, потому что, если что-то было передано информационными агентствами и даже показано в «Новостях „Четвертого канала”», это не значит, что все так и было в первом случае или все было точно так – во втором. Людям свойственно ошибаться. Опять же, «врет как очевидец».
Если у меня есть сомнение в каком-то своем вопросе, содержащем ссылку на чье-то заявление или какое-то событие, я спрашиваю: «Правда ли, это было? Он действительно так сказал?»
Ну и наконец, я спрашиваю: нет ли еще чего-то важного, связанного с темой разговора, о чем я могу просто не знать – я же не специалист, но о чем стоит рассказать.
Прединтервью не спасло
Иногда бывает так, что и прединтервью не помогает.
Был у меня на «Стенде» москвич, бывший журналист, потом телевизионный начальник. Обговариваем тему. Он что-то говорит. Начинается эфир, он говорит совершенно другое. Я потом уже догадался почему. Видимо, до эфира он говорил правду, ну вроде как коллеге-журналисту: «Ты же понимаешь…», а в эфире начал «работать».
Прединтервью спасло
А однажды прединтервью спасло. Гость – директор Горводоканала Олег Богомазов. У меня все вопросы о горячей воде. Ну не знал я тогда, что Горводоканал занимается только холодной водой. Как я радовался, что узнал об этом не в прямом эфире!
Узнают ли гости о вопросах заранее?
Дело в том, что вопросов в том виде, в каком они звучат в эфире, до эфира, заранее просто не существует. Невозможно написать вопросы, а потом выучить их наизусть до буковки. Я пишу на листочке темы: спросить об этом, об этом, об этом. Если нужно – какой-то фактический материал: подглядеть, если что.
Поставить гостя в тупик
Да, но, как правило, я все эти темы обговариваю с гостем. Не в виде конкретных формулировок вопросов, а именно в виде тем. «Хочу спросить об этом, об этом, об этом». Это тоже часть прединтервью. Гость может сказать: «Нет, это не мой вопрос» или: «Я не знаю», – тогда вопрос снимается.
Самое главное, нет задачи поставить гостя в тупик, заставить покраснеть, потерять сознание и свалиться под стол в конвульсиях. Есть задача сделать интересный разговор. Если гость «зависнет», как старый компьютер, это никому не нужно. Если гость не отвечает, что он будет делать? Это же разговорная программа, он должен говорить, а не мычать.
Я, как правило, всегда говорю: «Вот и вот тут я с вами не согласен, вот тут я считаю, что вы категорически не правы, а вот по поводу этого у меня совсем другая информация». Если назревает спор, то я заранее предъявляю мои аргументы. Пусть гость придумает красивые контраргументы.
Нет, «засадные» вопросы тоже бывают. Главным образом, для политиков. Я точно знаю, что политики выкрутятся.
Можно ли перебивать гостя?
Приходится.
Время ограничено. Есть определенное количество вопросов, которое необходимо задать в это ограниченное время. Людям свойственно, высказав главную мысль, добавить развивающие тезисы, объяснить, убедить. Вот это иногда приходится пресекать.
А как быть с тем, что перебивать собеседника невежливо? Ну это же не светская беседа, это разговор в особых условиях, процесс создания телевизионного продукта. Мы не просто разговариваем, мы делаем телепрограмму. Перед врачом раздеваемся, хотя раздеваться в публичных местах не принято? Так и здесь. И это случается не с каждым собеседником. Если человек говорит короткими фразами, его просто невозможно перебить, наоборот, приходится задавать дополнительные вопросы.
«А сколько мне отвечать?»
Часто задаваемый вопрос.
Имеется в виду – сколько времени должны занимать ответы. Человек пытается помочь, поучаствовать в процессе создания телевизионного продукта.
Я отвечаю так: говорите, как говорится. Если будет нужно, я вас перебью, если будет нужно – задам дополнительный вопрос.
Но все-таки лучше прерывать, чем каждый раз переспрашивать.
Показать список вопросов
Бывают тяжелые случаи.
Когда просят заранее прислать список вопросов.
Список высылается с предупреждением: в эфире вопросы будут звучать иначе, наверняка возникнут вопросы не из списка, да и сам разговор может пойти совсем в другую сторону.
Крайне редко организаторы визита настаивают на том, чтобы в разговоре мы шли по списку. Заранее утвержденному. Строго. Мне кажется, на это стоит соглашаться, только если этот гость вам очень важен. Очень-очень. Очень-очень-очень.
Прислать список заранее просят или пугливые чиновники – они бояться получить от начальства, если не то скажут, – или бизнесмены, не имеющие опыта телевизионных выступлений. Еще дипломаты – им положено.
А чаще всего заботливые пресс-службы.
В Екатеринбург приезжает Владислав Бородулин, шеф-редактор объединенной редакции издательского дома «КоммерсантЪ», до этого главный редактор сетевой
«Газеты.ру».
«Вы бы не могли прислать список вопросов для Владислава Геннадиевича?» Это за две недели. Могли бы, почему нет.
Приехал.
«Владислав Геннадьевич, я, честно говоря, удивлен». – «Чем?» – «Журналист, редактор, да еще таких газет – и список вопросов за две недели». – «Какой список? Каких вопросов?»
Не дать выговориться
Предварительный разговор перед эфиром или записью нужен еще и для того, чтобы установить психологический контакт, настроиться на собеседника. Если это незнакомый человек, то нужно понять, какой у него темп речи. Если основная мысль у него в начале периода, тогда его можно будет перебить, задать следующий вопрос, если основная мысль в конце периода, то его не перебьешь, придется ждать, пока закончит говорить.
Но при этом не следует позволять гостю отвечать на вопросы, когда вы их обсуждаете до эфира, когда говоришь: хочу вас спросить об этом, об этом и об этом. Он выговорится. А ведущему будет неинтересно второй раз то же самое спрашивать, но он-то интерес сыграет, работа такая. И гостю не интересно будет рассказывать. Человек понимает, что он сейчас «выступает», он в эфире, а не на кухне, но все равно перед ним собеседник, которому он только что все уже подробно объяснял. А теперь опять все сначала. Неинтересно.
Вчера: Александр Дворкин, профессор, заведующий кафедрой сектоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, главный сектовед страны. «Александр Леонидович, так что там у вас с неопятидесятниками?» – «Ну зачем же я буду до эфира об этом говорить, потом неинтересно будет!» Гость попался опытный.
Может ли интервьюер попросить придумать для него вопросы?
Да легко.
В большинстве, наверное, разговорных программ, которые мы видим на центральных каналах, вопросы ведущим придумывают специально обученные люди. И это совершенно нормальная практика, когда выпускающая бригада пишет сценарий, ищет гостей, придумывает вопросы, а ведущий ведет программу. Разделение труда.
Вопросы придумывают для ведущего, если он, так скажем, «приходящий». Первый год работы на «Стенде» я был таким приходящим ведущим. Три раза в неделю часа за полтора до эфира я приходил на «Четверку», и Валерия Горонкова, руководитель программы, рассказывала мне, какая у нас тема, кто гость, о чем его можно спросить. Не готовый список вопросов, а темы. Но можно было и список попросить, право такое было.
На региональном телевидении ведущие, как правило, все делают сами. И вопросы придумывают сами. Референтов бюджет не предусматривает.
Но бывает не так уж редко, когда я прошу прислать мне список тем.
На выборах, когда в эфир ходят кандидаты. Если человек приходит пятый раз за месяц, у меня фантазия иссякает. К тому же разговор в эфире должен соотноситься с агитационной кампанией кандидата, а я откуда знаю, какие у него планы?
Или кто-то просится в эфир, я понимаю, что тема интересная, вернее чувствую, но не знаю всех подробностей. Ну, например, предлагают: вот главный кардиолог России. Хорошо, берем, его будут смотреть. Но я не знаю, о чем можно поговорить с главным кардиологом так, чтобы это было интересно зрителям-сердечникам. Пришлите темы, пожалуйста.