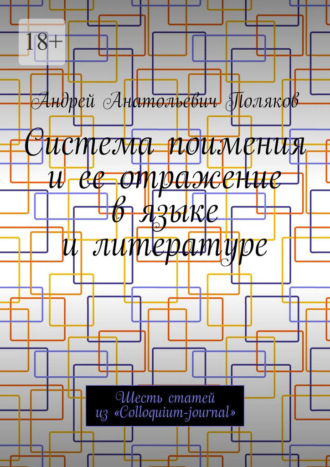
Полная версия
Система поимения и ее отражение в языке и литературе. Шесть статей из «Colloquium-journal»
Корни дв, двг, дл, тл, тлг, тв, образуют слова, обозначающие движение и происходят они от звука, издаваемого предметами при их передвижении: тягать, тягло, телега, тележка; тело, теленок, тёлка; тлеть, тленный, тло (дно), тля; двигать (-ся), движение, движок, двигатель, подвиг, подвижник, сдвиг, двинуть, давить, давление, довольный (тот у кого «двинутое, сдавленное, сплющенное» от радостной улыбки лицо); довольствие, продовольствие; длина, дело, деловой, делать, делить, деление, разделение, девушка, девочка, дева. З Фрейд в статье «Табу девственности» [3] пишет о существовании у некоторых примитивных народов обычаев, при которых девственница лишается невинности не женихом, а другими лицами. Этот обычай сохранялся и в «цивилизованном» Средневековье в виде «права первой ночи». Возможно, так было и славян. Тогда становится понятным происхождение слова «деверь» (брат жениха, обычно самый старший, видимо он лишал невинности невесту младшего брата), отворяя «дверь» в ее теле) и других слов: твердь, твердый, твердыня, отворить, творение, творец, творчество, при «т» = «ц», «отворять» «тело» нарушать «целостность» – целый, целка, цельный, цель, целиться, целовать, поцелуй. Возможно, что нечто «цельное», неразделенное считается потенциально, или даже реально состоящим из двух объединенных половинок, возможно отсюда и пошло название числа, состоящего из пары «частиц»: «два», которое можно «сделать» – разделить на две части; поэтому невинную особу женского пола называли «девой – девушкой», а если она была еще совсем маленькой – «девочкой». Тверь – крепость на границе Древней Руси – крепкая (твердая) дверь.
Жм, гм, гн, кн – звук при закрывании, зажимании (сжимании), сдавливании (давлении): жать (убирать хлеб), жать (давить), жатва, жим, жижа, жизнь, женщина, гинекология, ген, гений, живой, жито, зажим, гумно, гимнастика, гимназия, гимнастерка, гнуть, гной, гниение, гон (греч. угол – пентагон), гон – гонять (гонять из угла в угол), гонка, кон, конец, закон, конституция, конструкция, конь, князь, хан, коган (как говорят этимологи, слова «начало», «начальник» и т. д. происходят от того же корня, что и слово «конец»). «Началу» родственны слова с корнем «чн = кн». Этот корень одень древний и за время своего существования, как и некоторые другие древние корни, успел претерпеть много изменений: ять – чать – чанин (англичанин) – чин, японское «сан», «джан», «жан», «ян», «иоанн» (евр.) и др. означающие «душа», «человек». «Ять» – «ячь» – «ча» – «жить» и «иметь»(?), изымать – изъ-ять. Недаром большевики после победы революции убрали из русского языка букву «ять». Держать – дер (держ. др) + (ж) ать (ять) = дергается + иметь = не дать упасть (не отдать другому). Тот, кто «зажимает» других, «прогибает» их под себя», тот и «имеет» их.
«Ма» – самый простой слог из того, что может выговорить младенец. Младенец сосет грудь матери и производит этот звук. Этот звук он усваивает и начинает произносить его при общении с матерью. Этот звук начинает для ребенка обозначать понятия (термины) того, что близко ему. «Ма» – моё, мне, мы, я. «Мама – моя». «Мы» – изменение «а» на «ы» – изменение имени числительного: «мужчина» изменяется на «мужчины». Ням (открывание рта, с желанием что-нибудь съест, сделать частью себя, надкусить, попробовать, дать свое имя. – я – мя – мы -ма (мама) – моё – имя – это все, что возле меня, а значит и моё, принадлежит мне – мнение – мнить – манить (звать, тянуть к себе) – мания – маньяк – балетоман; я ем и делаю съеденное своим; «сын» (с именем, носитель имени отца), в отличие от «дочь» – «дочерь» – «дщерь» – «до (?) -черь (-щерь)» – до черты («своя» до замужества); son, sen: сеньор (исп.), синьор (итал.), в некоторых европейских языках такими словами называют сыновей или они служат окончанием подобным тем, которые применяются при образовании отчества: Андерсен – рус. Андреич; Петерсен (Питерсон) – Петрович; ном (административно-территориальная единица) – область, регион; name (nom) – имя; номер. Отсюда же и корень sim, обозначающий соединение, объ-единение и проч.: симфония, симпатия, сим-карта, сумма, в русском языке этот корень в еще и словах сума (сумка), зима и земля. Земля это все сплошноеу нас под ногами, не дающее нам упасть и т. п. Зима же это время, когда все становится сплошным и твердым, как это происходит с водой на водоемах. Летом мы, попытавшись пойти по поверхности воды, непременно провалимся, зимой же, когда реки покроются прочным льдом, мы свободно можем ходить по замершей воде рек, озер и т. д так как она застыла. Видимо по этому, у древних русичей бога смерти звали Симарглом, то есть тем, кто становился холодным и застывшим навсегда. Родственными тогда могут быть еще и «цемент» (то, что скрепляет вместе кирпичи) и «семья» – живу-щие вместе, скрепленные семейными узами. В «сумку» можно «сунуть» чего-нибудь. Таким образом, слова «сунуть, «совать», «присваивать», «свое» и т. д. также происходят от «имени» (ср. франц. глаг. «avoir» – «иметь), точно также как и слово «саммит» родственно «сумме», и математическому термину «синус», происходящему от латинского слова, обозначающего «карман». «Ем», «есть» (поглощать пищу) – делать «еду» (поглощаемую пищу) частью себя, своей. Получается, что русские слова «еда», «единица», «один» и французское слово «юнион» – «союз» означают объединение под одним именем. «Есть» (имеется), «est» (во французском языке – «есть, это»), «это», франц. глаг. «etre» – «быть», англ. «yes» – «да». От английского «йес» в русском языке появилось «есть» применяемое военными. Дом (виллы именные), королевский дом (Тюдоров, Валуа и т. д., лат. «homo» – «человек»; «знание» – «знак» – «знамя» – значение – знатный – замок (и рыцарский и амбарный) – замыкать – заимка – заём – анты (славяне);. nom (ном – имя), om, name, man, men, Empair (энпайр) – империя, император; С «именем» и «имением» я связываю ум умение, уметь, мочь, помощь, помогать, помощник, применять, применение, приём, приёмник, преемственность, преемник, можно, муж (мужчина), мужество. В латинском языке слово «любовь» звучит как «амур» в других романских языках слова «любовь», «друг» происходят от этого слова. Думается, что в этом случае ясно проглядывается связь между любовью и поимением другого человека. Слова связанные со «множеством» чего-либо («много») могут иметь такое же происхождение так как, когда чего то много оно обезличивается, теряет «имя» и становится безымянным, т.е. когда чего-то «много», то оно «имени не имеет» («много» = «имени нет», «несть числа»). Также с «имением», с творцом, с созданным им объектом, со всем, что существует на свете могут быть родственны слова: масса, мастер, мессия, мешать, мешок и др. С названием количества вещества, занимающего определенное пространство могут быть связаны слова, обозначающего его «имя»: объем, мера, межа, метр.
Слова в русском языке происходят, на мой взгляд, от звуков, которые происходят при взаимодействии субъекта и объекта, какого-либо действия. Слова отражают звуки взаимодействия и служат предупреждением о том, что может произойти в ходе возможного взаимодействия. То есть, то, как мы можем «иметь» (использовать) кого-то или что-то, или то, как кто-то или что-то может «поиметь» (использовать) нас. Ведь поимение происходит всегда и везде, так как все в мире взаимодействует со всем, что может подпасть под его действие и противодействие. Так упавшее дерево способно «поиметь» людей. Оно может упасть на человека или задеть его при падении и при этом его воздействие находится в пределах от причинения тяжкого вреда здоровью, вплоть до летального исхода, и до легкого испуга. Иногда падение дерева может вызвать у человека, который не был задет при падении, или даже находился далеко от места падения, может вызвать сильнейший стресс и шоковое состояние, способные довести человека до тяжелого нервно-психического расстройства или даже заболевания. Еще такое падение дерева может вызвать кадровые перестановки в системе управления данной местности, особенно в случае, когда пострадает или даже погибнет известная личность. При этом это дерево может войти в историю как дерево-убийца. Об этой истории могут быть написаны исторические исследования, книги, сняты фильмы и т. д. То есть это дерево будет «иметь» людей даже через продолжительное время после того, как от него даже трухи не останется.
Вероятно, подобным образом могла формироваться речь не только у индоевропейцев, но и у представителей других языковых семейств, например, у алтайцев. Так в тюркских языках есть слово «бар» («иметь») от которого производят русское «барин», ««помещик, владелец имения», у европейцев есть дворянский титул «барон», кажется имеющий германское происхождение. Звучат эти титулы очень похоже. К тому же, как было рассмотрено мной выше, в русском языке есть слово с корнем «бр – бар» – «брать, иметь, делать своим». Выше же рассматривался корень «уж-юз» так в казахском языке, относящемся к тюркской группе алтайскойсемьи языков, имеется слово «жуз» – «страна, область, регион, часть чего-либо», то есть что-то, что связывает между собой и само связано с чем-либо. То есть родственно русским словам «союз», «узел» и проч. А вот возможная связь с другим алтайским языком – японским: в нем существует слово «исогу» («ишогу») – «быстрее». Так это слово напоминает «ещё го», «ещё гу», то есть подбадривание «еще» и «го» («гоу»). Ну с русским «ещё» и так понятно, а вот «го» – это в английском языке обозначает «идти», впрочем и в древнерусском языке было подобное слово. И происходит оно от «гоп (оп), топ», то есть от подражания топоту при ходьбеи беге. То есть японское «ишогу» можно рассматривать как «ещё давай» и т. п. А тюркское слово «барабан» – это же подражание звука при ударах об этот музыкальный инструмент: «бар»+«бан (бон)». Слова в тюркских словах, связанные с детьми начинаются на «бала» («балапан», «балалар»), что может быть связано с корнем «бл—вл» и словами «волноваться», что очень похоже на русский язык, в котором «ребенок» – «ревет», а здесь, возможно, «волнуется», «балуется». Все эти примеры могут служить доказательством того, что предки «индоевропейцев» и «алтайцев» могли жить по соседству, в схожих природно-климатических условиях, обмениваться знаниями и опытом, заимствовать, а потому и формироваться у них речь могла по одному и тому же принципу. Я не знаю, жили ли древние семиты по соседству с предками индоевропейцев и алтайцев, но, и в языке древних евреев можно найти примеры подобного рода. Так в статье Б. Бермана «День первый» [4] он разъясняет смыслы слов, которыми изложен миф о сотворении нашего мира. По его словам корень слова «бара» (сотворил) родственен корню слова «убежал», «ушел», «вырвался наружу», по лингвистическому смыслу – это выход изнутри наружу. А мы уже видели выше, что русский корень «бр-вр» произошел от звука лопанья пузырей бурлящей воды. Само Творение обозначается словом «брия». И Творение это начинается с того, что первозданная материя «пар, смешанный с воздухом резко вырывается наружу» (проще говоря – происходит взрыв). «Брия» – пузырь лопается, взрывается, начинается буря, ураган, горячий огненный. Понятие «ацелут» у него – эманация, истечение из себя, то есть понятие родственное нарушение целостности.
А может быть все эти сходства – свидетельство более древних и тесных связей между людьми, бытовавшими в те времена, когда человечество было единым. Обилие слов, происходящих от одного и того же корня отражает то, что все это множество слов, порой очень не похожих друг на друга по своим значениям и звучанию, происходит от того, что этот звук одной из природных стихий использовался древними людьми с давних пор. И, судя по тому, какие то были звуки можно заключить, что наши предки жили в то время, когда они начали создавать свой язык (праязык множества языков), в горной местности, где шумели леса, и текли реки.
Ученые-антропологи выяснили, что большинство ныне живущих людей происходит от небольшой группы людей, несколько десятков тысяч лет покинувших Африку и разбредшихся по белу свету [5]. Вполне вероятно, что члены этой группы и были создателями и носителями праязыка, послужившего основой нынешнего множества языков, обуславливаемого многообразием природных условий, в которые попадали предки носителей тех или иных языков [6]. Среди тех, кто остался на прародине человечества (бушмены), в первоначальных условиях, сохраняются до сих пор языки, в которых много всяких щелчков и прочих примитивных звуков [7], которые тоже могли бы происходить от звуков, имеющих соответствия в звуках окружающего мира, особенно звуках, издаваемых животными, а может их речь имеет совсем другую основу.
Наши предки наблюдали за другими людьми и объектами живой и неживой природы и обусловлено это было тем, что все действия человека с того момента, как он был еще животным, направлены на выживание, как отдельной особи (или лучше выразиться особы), так и всего рода человеческого. А это в древности было целиком связано с «поимением» всего окружающего этого человека, включая и других людей. «Поимение» сказывается в том, что человек может дать чему-либо (или кому-либо) «свое» имя, то есть, название того, как ты что-то или кого-то можешь поиметь, или то как что-то (кто-то) способно «отыметь» тебя или окружающих. То есть при общении с другим человеком он «может назвать либо предмет, либо его функцию, либо признак и т.д.» [8]. Сама система «поимения» предстает перед нами в нейтральном виде, поскольку она имеет и хорошие и плохие стороны. Хорошо иметь близких для тебя людей: семью, родных и друзей, да и просто приятелей. При этом тебя считают хорошим, добрым и отзывчивым потому, что ты совершаешь добрые поступки, оказываешь помощь и соблюдаешь справедливость. Когда тебе станет плохо, окружающие окажут тебе помощь, вкупе с хорошим настроением от осознания того, что тебя считают хорошим это способно еще и повысить настроение и самооценку человека. Все это ведет к повышению уровня и продолжительности жизни хорошего человека. Впрочем, повысить самооценку, настроение, уровень и продолжительность жизни способно и плохое (злое) «поимение» других. Это ведет к кражам, унижениям, оскорблениям, насилию, грабежам, войнам, порабощению, убийствам. Все это вызывает негативную оценку тем, кто с помощью физической силы старается «поиметь» окружающих. Таких людей считают плохими и хорошие люди стараются избегать с ними контактов, и даже, при возможности, оказывают им сопротивление. Поэтому насильственное, физическое «поимение» не способно длительное время удерживать подчиняемых ему людей в повиновении. И в случае, когда желающий удерживать других в подчинении себе, таким образом, окажется слабее подчиняемых своей воле, то ему будет оказано сопротивление, способное избавить других от зависимости от этого человека. Здесь такому человеку остается прибегнуть к хитрости, начав использовать для «поимения» других свои умственные способности. Сила ума помогает создавать видимости своего могущества и значимости для других. По сути дела – это жульничество, мошенничество: при недостатке удругих информации о субъектах мошеннических операций создается видимость, позволяющая аферистам иметь власть над людьми и без применения физической силы. Все это делает несчастными множество людей, включая и тех, кто совершает зло. А, если бы люди прислушивались бы к советам таких писателей, как М. Сервантес, Н, В, Гоголь, А.С.Пушкин, Ф. М. Достоевский, О. Хайям и, освещавших тему «поимения» в своих произведениях, мы бы могли жить несколько лучше, чем сейчас. А впрочем, и не только этих, но и многих других авторов, поскольку любой писатель, отражая в своем произведении жизнь и отношения людей, непременно заденет и эту тему, поскольку это все и есть наша жизнь. Но все это уже тема для другой статьи, или даже ряда статей.
II Взаимосвязь и взаимодействие между собой назидательных произведений разных времен и народов.
В мировой литературе существует пласт «назидательных без назиданий» произведений. Их авторы пытаются неназойливо, в развлекательной форме, подвести читателя к необходимым выводам и заставить осознать необходимость перемен жизни к лучшему. Современные авторы также применяют подобный метод при создании своих произведений, используя наработки своих предшественников. Хорошим примером этого могут стать, опубликованные в 2021 году казахстанским литературным журналом «Простор» две таких «назидательных новеллы»: «Иллюзия жизни» К. Филонова [1] и «Феникс из первого снега» Н. Веревочкина [2]. Я обратил внимание на эти произведения, потому что их главные герои являются не только моими современниками, но и представителями моего поколения, поколения моих родителей и поколения «наших» детей. Мне отчетливо видна взаимосвязь современных авторов с их литературными предшественниками: классические произведения помогают понять современность, а произведения современных авторов помогают лучше понять классиков.
Все авторы назидательных произведений признают, что люди рождаются хорошими, а значит и жизнь наша могла бы напоминать Рай Земной. Иешуа в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» говорил о том, что все люди «хороши», а значит, достойны счастья, но не знают об этом. Почему на свете живет огромное число несчастных людей? Да потому, что у людей постоянно ищут пути к построению счастливой жизни, но все время сворачивают на «не тот путь» и ходят по кругу. Это потому, что все эти попытки основываются на «умном» начале. На том самом начале, которое приобрели, соблазненные Змием Искусителем, библейские Адам и Ева, попробовав плод Древа познания. Познавшие друг друга и окружающий мир, а значит и Бога, Адам и Ева стали противны Творцы и были извергнуты из его Царства в Царство Люцифера, правящего Землей и установившего на ней свои законы, свою власть.
Данте в «Аду» своей «Божественной Комедии» отлично показал то, как Дьявол правит подвластным ему Миром. Там мы видим полное пренебрежение людьми теми, кто устанавливает свою власть: так проще управлять ими. Те, кто стоит у власти внушают подчиненным комплекс неполноценности, тем самым принуждая их к подчинению. Многие осознают то, что они могут быть хороши, но продолжают соответствовать «рамкам приличия», принятым в обществе. Они стараются казаться «хорошими» в глазах окружающих, тем самым идут на обман, в том числе и самих себя. При этом они достигают успеха с меньшими затратами духовной энергии, но при этом у них появляется «иллюзия жизни», состоящая из противоречий (по К. Филонову). Эти противоречия создают трения и инерцию в движении. Чем больше трения и противоречий в душе человека, тем больше замедляется духовное движение человека вперед. Бывает, что он останавливается в своем духовном развитии, а иногда он может и упасть. Падение порой бывает настолько низким, что человек может упасть и в «духовную» преисподнюю, то есть в Ад. Наш мир принадлежит Дьяволу и управляется им. Сатана пытается удержать наш мир путем разобщения людей и возникновению между нами холодности и отчужденности. Поэтому в «Божественной Комедии» Данте показал Люцифера вмороженным в самую середину ледяного озера Коцит. Лучше всего разъединению людей и всеобщему разрушению соответствует расчет, поэтому разум является двигателем действий Сатаны. На уме строятся все попытки достичь успеха. Но всегда ли разумными бывают попытки таким образом добиться лучшей жизни? В мировой классической литературе мы видим множество примеров обратного. Здесь и убийца Раскольников («Преступление и наказание») Ф. Достоевского, проверявший себя на способность стать «право имеющим Наполеоном». Оболваненный средневековыми СМИ Дон Кихот, возомнивший, что если он назовет себя рыцарем, то ему станут помогать все, в том числе и высшие силы, и он получит императорскую корону и обретет любовь сказочной принцессы. Жулик Чичиков, жаждавший прослыть «порядочным человеком». Таким как «порядочные люди» «фамусовского общества». Того же пытался добиться в глазах своих единомышленников и Чацкий – циничный «разумный бунтарь», противостоящий Фамусову и Ко («Горе от ума») А. Грибоедова. Попытка профессора Преображенского «улучшить» собаку, с помощью частицы мозга человека, привела к перерождению бездомного пса Шарика в люмпенизированного собакочеловека Шарикова. В «Фениске…» и в «Иллюзии жизни» также присутствует довлеющее «разумное» начало, приводящее к трагедии. И главное в этом «разумном» начале – тщеславное желание самоутвердиться за чужой счет.
Красавица Снежана – «девочка, святящаяся вся, словно сделанная из первого снега», отвергала любовь и ухаживания Рябчика, «идеального» мальчика, влюбившегося в нее с первого взгляда, оттого, что хотела взаимности от «плохого парня» – малолетнего преступника Мухомора. Снежана, также, как Иешуа считала всех людей хорошими и мечтала влюбить преступника в себя, а за тем его исправить. Но у Мухомора был свой разум и он, подобно Хоме Бруту («Вий» Н. В. Гоголя) никогда бы не пошел на исправление, потому, что был так воспитан. Что «позже» и приведет к трагедии.
Приведет к трагедии и воспитание, полученное Ледком (Людмилой Понариной) из «Иллюзии жизни». Ее родители были учителями. Мать, Софья Петровна, была учительницей литературы, а отец – учителем математики. И эти учителя не смогли толком воспитать свою дочь, которая росла в одиночестве и без родительской опеки и ласки, из-за своего тщеславного желания прослыть хорошими учителями. Большую часть времени они отдавали работе, и от этого дочь их выросла одинокой, озлобленной и жесткой. За это еще маленькую девочку Людочку стали называть Ледком. Ледяное, адское отчуждение от матери привело к тому, что Ледок отторгла от себя любимого парня, Алексея Гребенникова. Они даже собирались пожениться, но Ледок все разрушила назло матери, которой очень понравился ее избранник. И больше никогда, ни за кого она так замуж и не вышла. И в пятьдесят лет так и сидела в старых девах. Так она наказала не только мать, но и саму себя. К пятидесяти годам так и не став, ни женой, ни матерью, Ледок превратилась в озлобленную стерву, думающую только о деньгах. Впрочем, стервой она стала еще, будучи маленькой девочкой, когда начала обижать других детей и даже убила голубя.
Это от полученного воспитания. Безжалостность, вызванная равнодушием к чужой душевной боли, вызванная нехваткой душевного тепла. Хома Брут был сиротой. Он не знал своих родителей и воспитался жестокой и чуждой, поначалу ему среде зла, затем ставшей ему своей. А панночка выросла в селе, где хоть церковь и была, но она стояла заброшенной, потому, что ее жители отвернулись от Бога. Порой малое зло может повлечь за собой большее Зло, от которого может пострадать большое количество людей и в совершение которого может быть вовлечено большое количество людей. Все дело в самой общественной системе, в силе трения, тормозящей, а порой и останавливающей движение человечества вперед. Порой при подобной остановке, в следствии инерции, происходит падение, и даже попадание человека в преисподнюю.
Мы все живем в преисподней. Мы сами создали эту преисподнюю для себя, позволив Дъяволу войти в нашу жизнь, сами впустили Ад в свои души. Мы сами относимся к другим людям плохо, отсюда и их плохое отношение к нам при этом происходит нарастание (эскалация) Зла. Все злодеяния панночки были направлены против людей «с темной стороны». Если бы среди жителей ее села были бы праведные люди, то вряд ли бы они пострадали от ее проделок. Ведь не пострадали же от нее спутники Хомы Брута. Они тоже не были праведниками, но не принесли вреда в дом панночки. А вот истории тех, кто пострадал от нее. Псарь Микитка в прямом смысле сошел с ума, а затем и вовсе сгорел из-за страсти и похоти, которую «простой псарь» испытывал к своей госпоже панночке. Семейство Щепчихи пострадало из-за разобщенности. Если бы козак Шептун любил свою жену и ребенка, и всегда был бы с ними, то не потерял их. Его жена, Шепчиха, если бы любила свое дитя и отважно защищала бы его, то он не был бы убит панночкой, а она сама бы не сошла с ума от пережитого ужаса. Других жителей села она наказывала по мелочи: то шапку украдет, то трубку, а то у девок косы отрежет. Это был тем повод о подумать об их мелких грешках, а также о Боге и Дьяволе, о Зле и Добре. Мог бы об этом задуматься и сам Хома Брут, когда его запирали в церкви наедине с трупом панночки. Тем более, что он сам был виноват в гибели панночки. Он не захотел сохранить ее жизнь, прекратив избиение, хотя она сама просила об этом. Показав ему свою красоту, она хотела показать ему красоту жизни и мира. Но безжалостного Хому не остановила ее красота. Не остановила его безжалостность при попытке панночки обращения его к Красоте, Любви и Богу. Ни при ее избиении философом, ни при заупокойной службе по душе погибшей красавицы. Панночка хотела, чтобы Хома увидел «живую красоту» ее мертвого тела и пожалел о том, что лишил не только мир, но и себя, этой красоты. Ведь панночка готова была отдаться ему, когда он ее мучил. К тому же служба по отпеванию панночки была в церкви и была частью богослужения. Своей службой Хома мог спасти душу панночки. Но он этого не сделал из-за страха. Из-за страха потерять себя такого, какой он есть. Он не хотел меняться. Также, как не хотел меняться бес из «Ночи перед Рождеством» Н. Гоголя. Черт очень боялся крещения, которому мог подвергнуть его Вакула. Это действие лишило бы его «самости», приобщило бы его к общему божьему миру, а он жаждал независимости. Но это была кажущаяся независимость. Утверждение независимости всегда связано со взаимодействием с другими и таким образом он все равно зависел от других. Бес, как и все, созданное Творцом, приобщен к божьему миру и вынужден жить по его законам. Его проделки против Вакулы выглядели как мелкое хулиганство (как и проделки богослова Халявы), а потому заслуживали несильных наказаний. А вот преступления Хомы Брута были очень тяжкими. Панночка могла простить своего убийцу, если бы он позаботился о спасении ее души, отягченной предыдущими преступлениями. Она даже пыталась в первую ночь наставить его на путь истинный, когда ее труп оживал и грозил философу наказанием за его бездействие по спасению ее души. Но Хома и не думал об этом, также, как избивая панночку, не думал он о ее пощаде. И тем самым, он обрек душу панночки на попадание в преисподнюю. А та потребовала самого жестокого наказания для своего обидчика в виде приобщения его души к Царству Дьявола и отправки ее в Ад. Причем в Ад Хома сошел «живым». При этом, как и со всем, связанным с адским разобщением, произошло разобщение его души и тела. Тело осталось в Земном Аду, вместе с оболочками духов и чудовищ Ада, застигнутых наступившим утром. А душа его попала в адскую преисподнюю. Ледок поступила со своей матерью подобно тому, как поступил Хома Брут с панночкой. Безжалостная Ледок осталась бесчувственной к мольбам матери бросила ее. Сначала Софья Петровна требовала внимания от дочери, когда позвала ее к себе в Москву. Затем, когда дочь уже жила с ней, но все время отдавала работе: Ледок еще подрабатывала репетиторством. Софья Петровна мечтала о мирке, в котором они бы вдвоем с Людмилой жили бы и наслаждались общением, любовью и единением. Но, Ледок, движимая силой отчуждения, вместо этого общалась не с матерью, а со своими учениками, которым оказывала репетиторские услуги. Это разъединение с матерью привело к отчуждению Ледка и от Бога: у нее не было времени ни на мать, ни Бога. Склоками между матерью и дочкой воспользовался один из учеников Ледка, студент-медик, который обокрал их. Среди украденных вещей была и ценная старинная икона Софьи Петровны. Дочь боялась, что мать расстроится из-за пропажи иконы и может ее наказать. Тогда Ледок, вместо того, чтобы покаяться и примириться с матерью, отправила ее одну на дачу, построенную еще ее отцом. Она была равнодушна к матери. И все участие дочери в дальнейшей судьбе матери сказалось лишь в том, что она попросила первого встречного мужчину позаботиться о пожилой женщине. Дочь даже не интересовалась тем, в каких условиях будет жить ее мать: на даче не было электричества, а значит, никакие электроприборы не могли работать. Софья Петровна не могла даже зарядить телефон, чтобы связаться с дочерью или с экстренными службами в случае беды. А беда не заставила себя долго ждать. Подобно тому, как в «Вие» на разобщенную семью Шептуна напала панночка, так и на дачу Понариных напали трое преступников: они ограбили дачу, избили и даже попытались изнасиловать слабую, беззащитную старушку.



