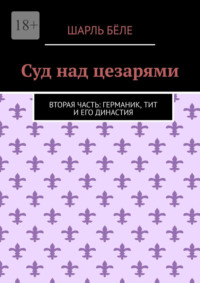Полная версия
Суд над цезарями. Первая часть: Август, Тиберий

Суд над цезарями
Первая часть: Август, Тиберий
Шарль Бёле
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Шарль Бёле, 2025
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2025
ISBN 978-5-0065-6986-7 (т. 1)
ISBN 978-5-0065-6987-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
О авторе
Шарль Эрнест Бёле (29 июня 1826 года, Сомюр – 4 апреля 1874 года, Париж) – французский археолог и государственный деятель.
Родился в Сомюре, получил образование в Нормальной школе. В 1849 году был послан в Афины, где занялся продолжением раскопок Акрополя и сделал открытия, обратившие на него внимание в учёном мире. Вскоре был отозван в Париж и назначен профессором археологии в Национальную школу хартий.
В 1860 году Бёле был избран в Академию надписей и изящной словесности, а в 1862 году стал постоянным секретарём Академии изящных искусств.
Политическая карьера Бёле началась с 1871 года; избранный от департамента Мен и Луара в национальное собрание, он примкнул к правому центру. Когда в 1873 году Мак-Магон был избран президентом республики, Бёле стал министром внутренних дел, но уже спустя 6 месяцев должен был передать свой портфель герцогу де Брольи.
Оскорблённое самолюбие и неудачная игра на бирже так повлияли на Бёле, что он наложил на себя руки; 4 апреля 1874 года его нашли в постели мёртвым. Похоронен на кладбище Пер-Лашез (участок 4).
О книге
Четыре книги объединены общим названием, которое четко характеризует их: Суд над цезарями.
Таким образом, работа, состоит из четырех книг.
Первая часть: Август, его семья и друзья; Тиберий и наследие Августа; Вторая часть: Кровь Германика; Тит и его династия. Портреты, воссозданые Шарлем Эрнестом Бюлею, – это прежде всего моральные этюды, и это уроки истории, которые автор старался в них выделить.
Книга 1. Август, его семья и друзья
Предисловие
Я предлагаю публике не книгу, а серию бесед, которые были записаны стенографически и которые меня попросили собрать. Я оставляю им их первоначальную форму, которая постоянно будет напоминать читателю о моих правах на его снисхождение; справедливо, в самом деле, предоставить некоторые вольности импровизации и думать, что сама быстрота выражения, если она иногда служит идеям, может часто им вредить. Я прошу историков и критиков не применять ко мне свои точные инструменты, но прислушаться к голосу своего собственного сердца. Портреты, которые я воссоздаю, – это прежде всего моральные этюды, и это уроки истории, которые я стараюсь в них выделить. Твердые совести найдут в них некоторое утешение, колеблющиеся – спасительные просветления, ибо поэты, льстецы, ложные законоведы всех времен сделали из Августа тип, который может только огорчать думающих, оправдывать льстецов и обманывать тех, кто правит.
Я посвящаю эти страницы моим слушателям в Императорской библиотеке: они уже принадлежали им, но это посвящение позволяет мне публично поблагодарить их за симпатию, которую они мне оказывали в течение четырнадцати лет, и за силу, которую они мне давали. Возможно, я иногда помогал им восхищаться тем, что прекрасно; взамен они всегда учили меня любить и хвалить только то, что хорошо, ибо уважение, которое внушает публика, является для оратора источником вдохновения и, так сказать, непогрешимым правилом.
I. Август и его век
В конце Римской республики молодой человек по имени Октавиан начал свою историческую карьеру так, как Нерон ее закончил. Во время гражданских войн, сурового испытания для молодежи, он проявил раннюю решительность и жестокость. У него полностью отсутствовали угрызения совести и мораль, что удобно во всех политических позициях, особенно в те времена, когда партии сражаются друг с другом с оружием в руках. Чтобы прикрыть свое поведение видимостью справедливости, он выдвигал предлогом месть за убийц Цезаря; это был лишь плащ, под которым скрывались его собственные обиды; преступления, которые он совершал, имели единственной целью расчистить путь перед собой. Впрочем, он был столь же склонен проливать кровь, сколь и получал удовольствие от ее вида. Эти игры в цирке, которые этруски передали римлянам, развили в них жестокость, которая никогда не исчезала и которую постоянно поддерживали бои гладиаторов. Октавиан с удовольствием наблюдал за казнями, которые он приказывал; он заставил сына сражаться против отца; говорят, он сам вырвал глаза несчастному, которого считал вооруженным против себя. Мне нет нужды напоминать вам имена его жертв; целые города, такие как Перуджа, были почти обезлюдены; даже его наставник не был пощажен, и Цицерон, его первый покровитель, был им брошен, если не сказать убит.
Более того, он был развратен; он заходил так далеко в своих позорных деяниях, что его друзья даже не пытались его оправдывать. Они находили единственное оправдание его поведению в том, что он стремился проникнуть в секреты могущественных семей и создать связи даже среди своих врагов.
Не имея другого руководства, кроме собственного честолюбия, он предавал все партии одну за другой: сначала сенат, чтобы стать народным трибуном, затем народ, чтобы быть назначенным пропретором сенатом, и, наконец, снова сенат, когда он заручился печальной поддержкой ветеранов Цезаря.
История сохранила для нас свирепый облик триумвира Октавиана. Вы также помните смерть главных друзей Катона, которые приветствовали Антония как генерала, но имели лишь кровавые насмешки для Октавиана-палача. Это было имя, которое Меценат, его лучший друг, однажды бросил ему в лицо.
Таковы были его молодые годы. И вдруг происходит мгновенная перемена.
Кровь лилась рекой. Другие триумвиры умерли, власть была завоевана: появляется новый человек. Куколка разрывает свою оболочку; из нее выходит бабочка. Август предстает перед потомством во всем своем великолепии; ослепленное таким блеском, потомство его оправдывает.
Признаюсь, господа, что для умов, желающих изучать ход человеческих дел, не подчиняясь предрассудкам, осужденным моралью, это внезапное изменение представляет затруднение. Ибо, нельзя отрицать, Август провозглашен одним из благодетелей человечества. Его имя стало символом милосердия. Этот человек, чьи руки были в крови, стал образцом великодушия. Корнель сделал его героем одной из своих трагедий, и величайшая похвала, которую можно адресовать живому или умершему правителю, – это попытка сравнить его с Августом. За этой похвалой больше ничего нет. Надо полагать, что Нерон был очень неуклюж, начав с добродетели и закончив преступлением. Достаточно было бы перевернуть хронологический порядок этих двух частей его жизни, чтобы Нерон тоже стал благодетелем человечества.
Во все времена люди имели склонность к низости, и сама история полна компромиссов с теми, кто потрудился ее обмануть. Когда дело было решено столькими голосами и столькими веками, едва ли осмеливаются его пересматривать. Но в конце концов, что лежит в основе этого суждения? Это то, что добро, сделанное Августом, заставило забыть зло, совершенное Октавианом; это то, что благодеяния конца его жизни стерли преступления начала; одним словом, это великая политическая доктрина, неустанно повторяемая: цель оправдывает средства. Эта империя, завоеванная и правыми и неправыми путями, станет священной, августейшей, угодной богам, только потому, что после множества зла будет сделано много добра.
Трудно подчиниться, даже перед лицом бесчисленных свидетельств, которые закрепили общественное мнение об Августе. Со своей стороны, я не подчиняюсь, я, напротив, возмущаюсь, и, прежде чем войти в этот век, где я буду последовательно восхвалять то, что заслуживает похвалы, я чувствую необходимость сделать протест совести. Я боюсь, когда буду говорить вам обо всех прекрасных памятниках, построенных в Риме в ту эпоху, что могу показаться восхваляющим Августа безоговорочно; поэтому я попрошу у вас разрешения заранее высказаться об этом персонаже, столь умеренном в конце своей жизни и столь злодейском в начале.
На чем держится эта популярность Августа? При жизни – на его умелой политике, а сразу после смерти – на своего рода всеобщем возгласе, который раздался в Риме; ведь уже на следующий день сенат пожелал назвать «эпохой Августа» период его правления. Преемники Августа сделали его еще более дорогим для памяти народа: одни – своим уважением к нему, другие – своими преступлениями. Христиане также способствовали созданию этого ореола; Христос родился при Августе, и великая империя, основанная его руками, была необходима христианству для обращения мира. Варвары, в свою очередь, восхищались, разрушая Римскую империю; византийские и средневековые императоры, Карл Великий и германские императоры искали в Августе образец для подражания. Возрождение возобновило восхваление того, кого Вергилий сделал бессмертным, а позже подданные Людовика XIV соревновались в воспевании его славы. Одним словом, кажется, что все человечество, устами своих величайших гениев, договорилось сделать Августа образцом того, что есть самого совершенного на земле в плане властвования, милосердия и умеренности. Достаточно того, что Август простил Цинну (хотя этот факт оспаривается), чтобы стать самым милосердным из людей, несмотря на то, что он пролил столько крови.
Прежде чем мы вместе рассмотрим историю искусства, давайте сначала, господа, посмотрим, насколько Август имел право дать свое имя своей эпохе. Прежде чем исследовать, был ли он инициатором прогресса в искусстве и совершенства в литературе в век, предшествовавший и последовавший за рождением Христа, подведем итог его делу, обсудим его права на восхищение потомков. Бросим быстрый взгляд на четыре грани, которые, подобно древнему Янусу, представляет нам личность Августа. Действительно, его можно рассматривать с четырех точек зрения: как частное лицо, как общественного деятеля, как администратора и, наконец, как покровителя искусств и литературы.
Предстает ли Август, став императором, как частное лицо, с той сверхчеловеческой фигурой, которую имеют великие люди античности? Является ли он Периклом? Александром? Одним из тех, кто носит на челе уважение и любовь человечества? Видим ли мы в нем блеск величия души, любовь к свободе или благородное служение родине? Является ли он одним из тех характеров, которых мы называем в высшей степени античными? Нет. Его жизнь легко узнать; нам достаточно в этом вопросе обратиться к его собственным согражданам. Даже на троне он оставался самым искусным эгоистом, лицемером, который никогда не думал ни о ком, кроме себя. С того дня, как его амбиции были удовлетворены, как он достиг всего, о чем может мечтать человек, найдя перед собой весь мир, склонившийся, как лес тростника, ему оставалось только практиковать умеренность и давать себе то удовлетворение, которое называют душевным спокойствием. Но он все же остается сложным человеком, человеком, владеющим собой, который, управляя другими, осторожно управляет собой. Когда он прощает Цинну, он лишь уступает мольбам Ливии, настойчивости женщины, наделенной редкой хитростью и способной на величие души. То, что позволяет судить о том, насколько он был недоверчив к самому себе в частной жизни, – это то, что, когда ему нужно было сообщить что-то важное Ливии, которая была для него как настоящий государственный совет, он сначала писал. Он заранее записывал то, что хотел сказать, чтобы его мысли не увлекли его дальше, чем он хотел. Таким образом, в частной жизни он оставался тем же, кем был в сенате, притворяясь бескорыстным, делая вид, что хочет отказаться от власти в тот самый момент, когда он больше всего за нее держался. Вся его жизнь сводится к этим словам, которые он произнес в день своей смерти: «Хорошо ли сыграна комедия? Аплодируйте!» Он умирает как актер.
Искусство, поощряемое блеском наград и сдерживаемое самой абсолютной властью, может, в свою очередь, увековечить образ Августа и сделать его одним из образцов римской скульптуры; но, что бы оно ни делало, оно никогда не сможет придать этому лицу характер величия, искренности, отпечаток, который выдает душу truly великого человека, которому нечего скрывать и который заставляет человечество склоняться не перед ним, а перед его добротой или гением. Не будем искать этого в Августе. Он станет типом в искусстве; потому что художник обессмертил его, но в реальности истории он всегда будет лишь актером. Он сам это сказал, и эти слова остались в истории и в памяти потомков.
Если мы хотим получить точное представление об Августе, нужно обращаться не столько к писателям, которые его восхваляли, сколько к художникам, которые его также приукрашивали, но которые его копировали. Нужно четко различать в скульптуре эпохи Августа двойное влияние греческого и этруско-римского искусства. Греческое искусство, изображая правителей, приближает их к идеальному, героическому или божественному типу. Римское искусство стремится к точности, сходству, выразительности, как в природе. Греческое искусство в императорских статуях создает и располагает пропорции, позы, атрибуты, одежду – словом, все, что не является лицом. Римское искусство, привыкшее отливать в воске лица предков и хранить их в атриуме, требует, чтобы маска была точной, и доводит правдивость до жесткости. Отсюда довольно странное сочетание, которое может объяснить большинство статуй императоров. Их тела условны, их черты индивидуальны; идеал Августа не избежал этого общего правила. Известно, что он был невысоким, с хрупким здоровьем, немного сутулым, иногда хромал, его ноги были обернуты четырьмя слоями шерсти: его статуи изображают его высоким, с величественными пропорциями, с героическим жестом; но его голова имеет такой характер индивидуальности, что нельзя сомневаться, что художники подчинялись тирании римских привычек, точно передавая красоты и недостатки оригинала.
Самым достоверным изображением Августа для нас, несомненно, является статуя, найденная четыре года назад в Прима-Порта, в семи милях от Рима, на вилле Ливии. Ливия, которая после его смерти стала его жрицей, очевидно, заказала самому искусному художнику того времени статую, столь же похожую, сколь и прекрасную.
Действительно, общий вид статуи восхитителен; поза – это поза бога, который правит и повелевает. Панцирь покрыт рельефными украшениями, достойными камеи. Но голова привлекает все внимание, потому что именно здесь чувствуется настоящая энергия персонажа, историческая правда и непроизвольные проявления души, привыкшей скрывать себя.
Первое, что бросается в глаза, – это выступающие скулы; они подчеркнуты до жесткости. Челюсть выражает напряжение и упорство. Лоб передает спокойную и настойчивую волю, привычку к личным идеям больше, чем к возвышенным. Глаза тусклые; вместо того чтобы выражать, они отталкивают; в них нет ни мягкости, ни того покрова serenity, который так мастерски находила античная скульптура. Рот твердый, сжатый, непреклонный. Сколько секретов он сумел сохранить! Сколько хитрости в нем скрыто! Какая осторожность и сдержанность! Это больше, чем рот Макиавелли, это рот человека, который заранее записывал то, что хотел сказать Ливии, своему советнику и сообщнице, боясь, что в пылу интимной беседы он скажет слишком много или слишком мало. Его волосы короткие и спускаются до затылка, что было признаком рода Юлиев. Шея… но здесь уже греческое искусство берет свое, потому что шея имеет прекрасные пропорции, хотя мы знаем по бесчисленным монетам, что она была непомерно длинной.
Нижняя часть лица заслуживает особого внимания: она выражает распущенность, в ней есть что-то материальное, она не лишена некоторой низости. Понятно, почему Ливия считала благоразумным закрывать глаза на его измены, иногда даже способствовала им, и почему ни одна римлянка не была защищена от оскорблений императора: ведь достаточно было, чтобы раб с императорскими носилками появился у дверей самого знатного человека в Риме, и тот считал себя обязанным, лишь вспомнив о триумвире Октавии, позволить своей жене сесть в эти носилки и отправиться во дворец.
Весь облик лица выражает всё то, что описывали современники: жестокость и лицемерие, страсть и хитрость, сосредоточенность и плохо сдерживаемый пыл, который иногда вырывался ужасными вспышками гнева; это властелин мира, который старается быть властелином самого себя, но не всегда в этом преуспевает.
Прирождённая свирепость того, кто приказывал проводить проскрипции, оставила свой вечный след: вот он, Август, который однажды, в мирное время, заседая в суде по уголовным делам, забывался или, скорее, проявлял свою истинную суть, выносил смертные приговоры и разгорячался, как тигр, учуявший кровь. Именно тогда Меценат, находясь в толпе, не смог сдержать своего негодования и бросил ему свои таблички, на которых только что написал эти слова: «Встань наконец, палач!» Ах, господа, какое откровение! Какой луч света, который ни поэзия, ни льстецы никогда не смогут затмить! «Встань наконец, палач, ибо мы знаем тебя, мы видим сквозь твою маску, мы не обманываемся ни твоей показной милостью к Цинне, ни великолепными стихами Корнеля, ни общими местами, которыми питается потомство, ни твоими пагубными добродетелями, ни твоей узурпированной репутацией, ни этой огромной поэтической выдумкой, которую самые красноречивые писатели твоего покорённого века создали вокруг тебя!» Меценат, доверенное лицо всей твоей жизни, предал тебя этими четырьмя словами, и любимый художник, которому Ливия заказала твой портрет, также предал тебя, стремясь проникнуть в твою душу через черты лица.
Я перехожу к общественному деятелю. Это великий процесс, который каждое поколение судило по очереди, но который невозможно решить в пользу Августа, если держать в руках весы, на чашах которых только справедливость и истина.
Говорят, что Август в своей общественной жизни, в своих отношениях с государством, был благодетелем. Однако, когда изучаешь события день за днём, понимаешь, что он был весьма виновен перед своей родиной, что он нарушил все свои клятвы, предал самые благородные интересы, которые были ему доверены, и прежде всего свободу и достоинство римского народа. Никто не оспаривает этого, возражают; но он сделал это лишь для того, чтобы спасти общество, которое разлагалось. Основав империю, он сохранил римскому государству жизнь, которая ускользала; он установил, введя принцип наследственности, единственную прочную основу, на которой можно было бы построить правительство. Огромная мощь римлян, раздираемая фракциями, была сохранена им; он был спасителем не только Рима, но и всего мира.
Признаюсь, я вовсе не убеждён. Он спас Рим, говорят; но разве Рим был так уж угрожаем в тот момент, когда консулы только что подчинили ему все провинции Европы и Дальнего Востока? С каких пор спасением называют систему, которая устанавливает власть одного, уничтожает народ и делает его зависимым от единственной воли? И эта процветание, которое, как говорят, он продлил на четыре века, не утешило даже двух поколений! Едва ли оно длилось одно правление, ибо на следующий день после смерти Августа начинается череда эфемерных тиранов и узурпаторов, которые свергают друг друга. Сначала Тиберий, Калигула, Нерон; затем, после нескольких проигранных или выигранных битв, мы видим появление и исчезновение теней – Гальба, Отон, Вителлий; Веспасиан и Тит прерывают эту длинную череду беспорядков, но их преемником становится чудовище – Домициан. После неспособных императоров, которые подрывают финансы и судьбы римского народа, появляются несколько хороших правителей, как Антонины, но вскоре – Коммод, Каракалла, Гелиогабал. Одним словом, история империи – это лишь череда позорных падений, прерываемых тщетными попытками подняться.
В это время римская администрация, дисциплина армий, целостность провинций постоянно находятся под угрозой и близки к гибели. Следовательно, чего стоит этот прекрасный принцип наследственности, когда выборы осуществляются армиями и часто зависят от варваров? Каждый генерал в Галлии, Британии, Сирии, Африке – кандидат на империю; гражданские войны не прекращаются. Разве это принцип, когда сила оружия заменяет право граждан и подменяет их выбор своим? Разве это устойчивый режим правления, когда насильственная смена тиранов, которые по очереди атакуют друг друга и ищут в битвах и резне лишь путь к трону?
Наследственность, эта химера и благодеяние Августа, не сохранилась даже для его детей и внуков. Они все умерли до того, как смогли наследовать ему, а человек, который его заменил, – это тот, кому он доверял меньше всего, Тиберий, который не был ему родственником по крови, которого он ненавидел и который был лишь сыном первого мужа Ливии.
Повторяю, господа, это не принцип правления, который Август ввёл силой; и если бы можно было пройти сквозь века и вызвать некоторых членов семейства Сципионов, Марцеллов, Катонов, если бы предположить, что эти великие умы оказались на месте Августа на следующий день после гражданских войн, когда кровь лилась по всему миру и своего рода усталость притупила лихорадку, охватившую римский народ, то можно задаться вопросом, повели бы они себя так же, как Август. Разве в тот момент бескорыстный ум, любящий общественное благо и величие Рима, не мог бы сказать себе, что возможно восстановить мир в этой республике, которая нуждалась в том, чтобы собраться с силами, не отдавая её в руки одного господина, а лишь используя власть на короткий срок?
Допустите, господа, что Август принял бы, как он это сделал, диктатуру или более мирную власть – народный трибунат, который делал его неприкосновенным, или консульство, которое давало ему командование армиями; допустите даже, что он собрал бы все власти в одних руках, назвав это, как древние римляне, диктатурой: разве он не мог бы, если бы захотел, восстановить республику, сделать её сильнее, уважаемой, более сплочённой, чем когда-либо? Разве это была бы такая сложная роль? Разве ему пришлось бы делать что-то иное, чем то, что он делал для установления империи? Это был бы абсолютно тот же самый труд; только он бы сохранял власть на десять лет, а затем передал бы её в руки сената, не с той лицемерной уловкой, которую он продемонстрировал, а с серьёзной, твёрдой, непоколебимой волей отказаться от неё, сопроводив этот великий акт бескорыстия одной из тех речей, которые он умел произносить, чтобы успокоить народ насчёт искренности своего отречения. Уже видели, как Сулла сложил власть, а Цезарь был убит за то, что протянул руку к царской короне. Если бы Август, в свою очередь, передал власть, обеспечив избрание преемника в своём присутствии, который бы затем избрал другого, и таким образом подготовил бы непрерывную череду лидеров, выбранных республикой, я думаю, он сыграл бы великую роль и основал бы нечто более долговечное, чем то, что он создал. Эта роль подошла бы великодушной душе. Возможно, это было бы смело, но я убеждён, что если бы Август попытался это сделать, он продлил бы республику не на четыре века, а на десять. Я уверен, что это великое единство мира могло бы найти в себе элементы долговечности; что римский сенат, который был испорчен при Цезаре, мог бы быть очищен; что сословие всадников, которое можно было бы расширить, как это, впрочем, сделал Август, могло бы предоставить всем амбициям широкое поле и дать отличных администраторов, и что, наконец, народ, допущенный к серьёзным выборам в комициях и не вынужденный голосовать за навязанных кандидатов, мог бы свободно осуществлять свои права, предоставив при этом значительную долю латинским народам и провинциям, которые протестовали против насилия и вымогательств проконсулов и пропреторов.
Здесь предстояло совершить великие дела, сыграть благородную роль, не ради личной выгоды, но на благо общественного дела; этого можно было достичь с помощью того живого и сурового чувства, которое называлось par excellence римским чувством. Христианство, вместо того чтобы быть объектом подозрений, как это было при императорах, стало бы союзником республики и распространило бы среди бедных и отчаявшихся граждан принципы милосердия, любви, мягкости и послушания, которые древний римский народ никогда не знал.
Признаю, на расстоянии весьма трудно решить подобную проблему; но, несомненно, тот, кто попытался бы решить её в том направлении, которое мы указали, даже если бы потерпел неудачу, заслужил бы имя великого. Что касается Августа, он не заслуживает этого имени, поскольку сделал как раз обратное. Он думал только о себе и истощил жизненные силы государства ради собственной выгоды. – Сенат, где было столько славных имён, традиций, генералов и политиков, он лишил силы, превратил его в соучастника своих комедий, в льстеца без уважения, в угодника без стыда, он навязал ему закрытые заседания; ведь именно с Августа акты сената перестали публиковаться. – Римские юристы, ставшие классом, преданным императору, будут служить для проведения несправедливых процессов, оправдания беззаконий, осуждения всех, кого хотели устранить; они создадут такие юридические сложности, которые сделают судебную процедуру опасной для граждан. – Армия, которая была силой страны, состоявшая из земледельцев, граждан, берущих оружие для защиты родины, станет императорской солдатнёй. Ветераны Цезаря были отозваны; они были распределены вместе с ветеранами Августа по двадцати восьми колониям и, можно сказать, превратились в постоянную угрозу на службе у господина. – Государственные должности умножились до бесконечности и образовали в руках императора как бы сеть связей, распространяющихся ради его власти на все части империи. Народ ощутит на себе это пагубное влияние. Вместо того чтобы возвысить его, все усилия императора будут направлены на его унижение. Как и господин, народ тоже будет вынужден играть комедию и приходить на комиции, чтобы голосовать с видимостью свободы; он станет народом, оторванным от своих обязанностей, ожидающим своего благополучия только от императора, озабоченным лишь играми, которые ему устраивают, и беспокоящимся главным образом о том, приходит ли хлеб из Сицилии или Африки.