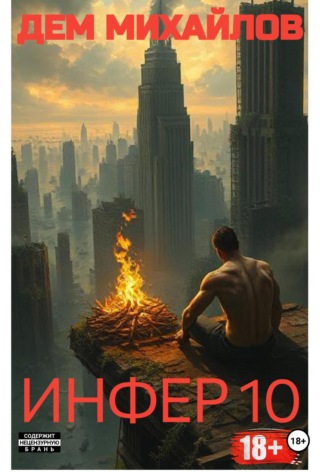
Полная версия
– Продолжай!
– Ага… Так вот, Мумнба… знаешь, почему ты не чувствуешь вкус рыбы и почему жгучий перец едва щекочет тебе глотку?
– Почему?
– Потому что ты сыт, – ответил я и с удовольствием отправил в рот еще один ломтик жирной рыбы. – Ты зажрался. Ты умелый рыбак, умелый добытчик и вообще мужик ты по жизни умелый, а значит, жратвы у тебя слишком много. Все не продашь. Хотя ты продаешь, и денег у тебя тоже дохрена – в этом я уверен. И винтовка у тебя есть получше этой, и пистолет с запасом патронов найдется у тебя в тайнике. Но при этом я уверен, что Церру ты покидал налегке – может, только с лодкой, да и ту купил на собственные сбережения, не попросив у покинутого тобой рода ничего. Хотя вон та наваха выглядит старой…
– Личный подарок дона Матео…
– Уверен, что ею ты перерезал глотки многим его недругам. И убивал ты, не только защищая его от непосредственной угрозы. По его приказу ты уходил ночью в город, возвращался до рассвета, а с утра на улицах начинались вытье и причитания по обнаруженному в грязи трупу видного городского деятеля или непутевого наследника чужого рода, или труп девки, решившей влезть слишком высоко…
– Я служил верой и правдой.
– Да. И тем обидней, когда для новой власти ты становишься не нужен. Так что ты ушел. И провел годы на окраине Церры, медленно обрастая барахлом и жиром. С каждым годом еда становилась все безвкусней, и ты начал все обильней приправлять ее жгучим перцем. Может, уже и выращиваешь для себя пару кустиков особо убойного перца где-нибудь там, вверху, на безжалостном солнцепеке? Это, кстати, тоже четкий диагноз, говорящий о… Но сейчас мы о другом… сейчас я говорю о терзающих тебя чувствах застарелой обиды, надежды и… одиночества.
– Я не… я ушел сам! Я всем доволен!
– Нет… не доволен. Ты не доволен. Ты зажрался, ты одинок, и ты недоволен. Ты не голоден, Мумнба. А чтобы ощутить вкус еды, надо быть голодным. Нужно, чтобы голод терзал тебя долго и сильно… и вот тогда, положив в рот одно лишь истекающее пахучим жиром волоконце копченой рыбы, ты ощутишь взрыв вкуса на языке, а слюны выделится столько, что ты ею захлебнешься. Вот только у тебя слюна теперь выделяется, лишь когда ты рассказываешь сказки о своей Церре. Аж по подбородку стекает. А когда жрешь рыбу, вынужден запивать ее самогоном – в глотке так сухо, что и не пропихнуть иначе сквозь нее.
– Ты… я…
– Хочешь снова ощутить вкус? Тогда отыщи себе новую ответственность. Заведи семью, наплоди десяток вечно голодных спиногрызов, потом посели неподалеку любовницу, сделай детей ей и начинай кормить всю эту ораву. Не подходит роль семьянина? Тогда иди моим путем, гоблин.
– Твоим путем?
– Найди для себя цель, а затем шагай к ней, по пути обрастая умелыми злыми бойцами. Их всех надо кормить, их надо держать в узде, постоянно быть готовым выбить из этих ублюдков все дерьмо. Тут уж не до безмятежного пожирания рыбы. Жир на твоей туше быстро растает, равно как и твои тайные запасы бабла и оружия. А у тебя появится смысл жизни, старый брошенный телохранитель Мумнба. И не придется ждать, когда воплотятся в жизнь твои тайные надежды…
– Мои надежды? Я не говорил ничего о…
– Твои глаза говорят, – ответил я. – У тебя есть табак?
– Есть сигары…
– И ты молчал? Жадный старый Мумнба…
– Вот, держи! Мне не жалко! Ничего не жалко! – он уже почти кричал, покрасневший от жары, собственного жира, алкоголя и моих безжалостных слов. – Там, в лодке! Под кобурой с дробовиком. Если хочешь – можешь выстрелить мне в голову! Мне уже плевать!
– Да нахер мне это надо, – буркнул я. – Хорошо же сидим. Душевно. Эй, раб! Самогон будешь?
– Буду! И рыбы кусок!
– Кинь ему, – кивнул я Мумнбе, и тот, что-то проворчав, ловкими бросками отправил вверх и то и другое.
Там, вверху, радостно зачавкали, а я, вернувшись, раскурил с помощью старой золотой зажигалки сигару, пыхнул дымом и прислонился плечом к стене, продолжив беседу:
– Надежды… они у тебя есть. И звучат они у тебя в голове примерно так же, как в голове каждого влюбленного мальчишки, мечтающего спасти свою принцессу: вот бы на нее кто напал, а я подскочу и спасу ее! Вот и ты такой же… живешь тут на окраине, выглядываешь опасность, всегда готов предупредить родной город о надвигающейся беде. Ты и бой принять готов. Я ведь не зря про оружие запасенное упомянул. Где-то есть у тебя нычки, и расположены они в заранее обнаруженных огневых точках, откуда ты сможешь вести прицельную стрельбу. Вот почему ты так ловко сделал меня, Мумнба. Не я растерял сноровку. Нет. Просто это твоя территория, и ты знаешь тут каждый сантиметр, каждый уголок. Ты тут как рыба в воде и многократно отрепетировал встречу как одиночки вроде меня, так и целой армии. В этом месте никто не может быть лучше тебя. Я неправ?
– К-хм… зажги и мне сигару…
Кивнув, я выполнил просьбу и, опять убрав сверток с сигарами себе под ляжку – и отдавать не собираюсь – продолжил:
– Поэтому ты втайне рад, что над Церрой нависла угроза с севера. Почему? Потому что в трудные времена вспоминают о тех, кто верно служил прежде. Их возвращают из забвения, окружают заботами, выдают привилегии, они снова в центре событий, и их слова больше не игнорируются, а внимательно выслушиваются и принимаются к исполнению. Скажи мне, Рыбак… когда ты перестал быть просто телохранителем? Когда старый дон начал иногда спрашивать у своего верного пса советы и даже иногда прислушиваться к ним?
Жирдяй не ответил. Сидя неподвижной горой сала, он делал глубокие затяжки и молча смотрел, как на стене сражаются огромный богомол и юркий хамелеон.
– В свое время ты был значим. И потеря этой значимости глубоко уязвила тебя. И ты ушел. Стал выжидающим одиночкой. Но твое одиночество затянулось так надолго, что ты не выдержал и из злобного матерого пса превратился в жирного ядовитого моллюска. Да… одиночество – та еще отрава, если потреблять неправильно.
– А ты не одинок?
– Я? Я одинок. Снова. Но наши одиночества разные, Рыбак.
– Это почему же?
– Я свободен. Хорошо это или плохо, но я свободен. Сегодня я здесь, сижу пью горлодер, курю сигары и смеюсь над тобой, старый, жирный и никому ненужный рыбак. Завтра я миную Церру, даже не заметив ее красот или уродства и двинусь дальше к горизонту.
– А я? Я тоже так могу!
– В этом и дело, – возразил я. – Ты не можешь. Прикованный пес не покинет хозяйского двора.
– Я давно никому не служу!
– Служишь. Пусть не прежнему роду, но своей родине. Ты верный пес Церры. Пес, что продолжает охранять свою родину и готов умереть за нее. Ты тот, кого раньше называли забытым ныне словом «патриот». Патриот своей родины. И значит, ты прикован к ней намертво. На твоей ноге такая же цепь, как на ноге срущего на голову статуи Сесила. И если Сесилу можно даровать свободу, предложить убраться отсюда подальше, и он рванет так, что только пятки засверкают… тебя освободить невозможно. Ты патриот.
– Ты не знаешь меня! Да, я люблю Церру, но ты не знаешь меня!
– Спорим, знаю? На двадцать винтовочных патронов. Спорим, мои следующие слова тоже будут правдой. Если ошибусь – отдам тебе свои патроны.
– Говори!
– Ты сказал, что платишь две десятины.
– Все платят. Таков закон.
– Но ты сказал это с потаенной гордостью. Спорим, ты платишь десятины точно в срок? Ни разу за все годы не опоздал, а если это и случилось, то только потому, что ты физически не мог явиться вовремя.
– Два раза я болел. Лежал пластом. Лихорадка, – едва слышно обронил Рыбак.
– Платить налоги ты являешься чисто выбритым, причесанным, в лучшей своей одежде. А заплатив, отправляешься в кантину, но не ближайшую, а в ту, любимую, где ты проводил досуг во времена, когда был весомым человеком, когда служил дону Матео. Ты усаживаешься на свое любимое место, заказываешь лучшие блюда, выпивку. И проводишь там время до закрытия, небрежными кивками отвечая тем, кто знал тебя по прежним временам. Там же встречаешься со стариками и их знакомым тебе потомством, расспрашиваешь о происходящем в Церре, всячески при этом стараясь не показать жгущего тебя любопытства….
– Хватит!
– Что «хватит»?
– Ты выиграл спор! Я отдам тебе двадцать патронов!
– Я еще не закончил…
– Сорок патронов к винтовке! Только заткнись уже! Да, я – он самый! Я патриот! Разве ж это плохо?
– Плохо? Нет, – я покачал головой. – Без патриотов не выстроить фундамент. Но патриот должен быть в гуще событий, должен быть деятельным, приносящим пользу. А если патриот всеми забыт и живет на окраине мира… это медленно сводит его с ума. Рано или поздно ты свихнешься, Мумнба. Сойдешь с ума, превратишься в тихого помешанного, плавающего на своей лодке по окраинным руинам и все реже навещающего город. Или найдешь себе цель среди правящих молодых наследников, оденешься во все лучшее, возьмешь винтовку и явишься в город чтобы убить его…
– Что ты! Я верен себе и родине! Я…
– Бывших, как ты, не бывает, Мумнба, – тихо произнес я. – Взгляни на меня. Я сам такой. Я не знаю покоя. Меня все время что-то жжет изнутри… Разве бывает день, когда ты не думаешь ни о чем из прошлого? Бывает?
– Нет… не бывает…
– И не будет. Не хочешь сойти с ума – займись чем-нибудь. Сколоти свой отряд, породи новое племя.
– Я уже стар…
– Да плевать. Лучше умереть в пути, чем сдохнуть всеми забытым у ног пляшущего на лбу статуи голого придурка с обосранной жопой. Кстати, его ты взял сюда не из желания воспитать и выбить из него дурь. Нет. Тебя сжигает одиночество. А он – хоть какая-то компания. Спорим, ты часами сидишь здесь просто так?
– Я не буду больше с тобой спорить, амиго.
– И мне ты рад тоже из-за одиночества. Проплыви я мимо – ты бы нагнал, окликнул, навязал бы свою компанию.
– Кто ты такой, Оди? Я уже начинаю ненавидеть тебя…
– Я? Хм… я тот, кто знает тебя, Мумнба. Хочешь, я расскажу тебе кое-что еще?
– Нет… – медленно привстав, Рыбак покачал головой. – Не хочу больше слушать. Каждое твое слово – как удар ножом. Я хочу теперь подумать о многом. Потом я буду спать. Долго. А потом опять буду думать… Я… я благодарен тебе, чужак.
– О… когда меня вдруг опять называют чужаком, то это сигнал к тому, что меня вот-вот пошлют нахер…
– Уходи, – попросил Рыбак. – Пожалуйста.
– Ладно, – кивнул я. – Но только если отдашь раба, подаришь запас копченой рыбы, расскажешь, как быстрее добраться до Церры, где там лучше всего остановиться, а еще мне нужны деньги и пара бутылок этого самогона…. Что скажешь, Мумнба? Разве это не щедрое предложение с моей стороны?
Несколько раз мигнув, Рыбак задумчиво уставился на меня, перебирая в пальцах рукоять навахи. Столь же молча сверху на нас таращился эсклаво Имбо Сесил, держащий бутылку за горлышко так, как ее держат перед тем, как швырнуть в чью-нибудь голову. И мне даже было интересно – а в чью именно голову он хочет метнуть бутылку?..
Глава вторая
Налегающий на шест Сесил первые десять километров помалкивал, лишь изредка жадно поглядывая на лежащий у моих ног сверток с рыбой и самогоном, подаренный Рыбаком Мумнбой. Щедрый и таящий на всех застарелую обиду старик, ненавидящий одиночество, но купающийся в нем уже долгие годы, попутно готовясь защищать родину от враждебных посягательств. Чем не сурвер?
Когда мы миновали вообще необжитые территории, служащие охотничьими зонами, что было видно по ловушкам для птиц и рыболовным сетям в протоках между зданиями, Сесил заработал шестом активней, засверкал улыбочкой, у него опять масляно заблестели глаза, а сам он, отмывшийся от дерьма и грязи в соленой океанской воде и натянувший старые рваные шорты, выпрямился и даже обрел некую горделивую осанку.
– Я ведь особых кровей! – так он, как ему показалось, внезапно и резко начал беседу, одновременно повернувшись ко мне и улыбаясь, опять же, как ему самому казалось, с некоей весомой значимостью.
Я задумчиво молчал, полулежа на корме глубоко ушедшего в воду плота и крутя в пальцах случайно замеченный среди камней сувенир. Я выдернул его из грязи, отмыл в воде, рассмотрел хорошенько, и в голову со вспышкой вернулось еще несколько кусочков воспоминаний. Сама найденная мной безделушка раздавалась бесплатно и по законам тех лихорадочных агонизирующих лет была создана по всем правилам «полезной рекламы» – любая другая материальная в средние времена Эпохи Заката была запрещена на законодательном уровне по всему умирающему цивилизованному миру.
– В жизни не все пошло так, как хотелось, амиго, – Сесил продолжал смотреть на меня со становящейся все отчетливее видимой горделивостью. – Но без дела я не сидел! О нет! Я за многое брался! Принимал на себя! Брал поручения весомых людей! Да, мало что у меня получилось… Но я старался! Так уж вышло…
Я поморщился, не пытаясь скрыть брезгливость. Очередной дерьмоед, проповедующий столь удобную ему систему вербальной самозащиты, могущей влегкую оправдать любую неудачу, любой провал. Очередной способ прикрыть свою некомпетентность.
– Но в чем-то я получше других! – Сесил все еще бубнил, сам не замечая, как начинает говорить все громче и как у него сходятся на спине лопатки, возвращая ему полузабытую за время рабства идеальную осанку. – А моя семья – одна из старейших! Боковая ветвь, но мы все же родичи тем, кто правит! Да, да, амиго! Так и есть! Я и за тебя могу замолвить пару словечек там, в Церре! Я всегда умел разговаривать с людьми! Словечко тут, кивок там, встреча за стаканчиком с нужным человечком здесь… да, порой я перегибал со стаканчиками, но я всегда старался, как лучше! Я старался! Понимаешь, амиго?
– Не понимаю, – усмехнулся я и, подбросив на ладони древний пластиковый сувенир, лениво поинтересовался: – Знаешь скольких таких, как ты, я убил?
– А? Таких, как я, сеньор? Не понимаю…
Шест в его руках дрогнул, он инстинктивно сместил ладони чуть ниже, перехватывая ближе к центру, чтобы в случае чего суметь быстро выдернуть его из воды и без замаха ударить меня, снося с плотика. И снова ему показалось, что он это проделал незаметно и искусно. И даже не уловил, как куда-то пропала его горделивая поза, как он снова согнулся дугой, съежился испугано.
– Не понимаешь, – повторил я. – Уверен, что не понимаешь, эсклаво?
– Я больше не раб, сеньор, – напомнил он и с силой налег на шест, проталкивая нас через узкий проход между двумя накренившимися и столкнувшимися верхними этажами зданиями, теперь уже навечно стянутыми удавками лиан. – Я получил свободу!
– Ты больше не раб, – кивнул я. – Да, Сесил. Ты снова свободный кусок дерьма, готовящийся вернуться к главному занятию своей жизни – пачкать и портить все, к чему прикоснешься, не забывая регулярно приговаривать свою сучью мантру при каждом очередном провале порученного дела: «но я старался, так уж вышло». Да, Сесил?
– Я… Послушай, сеньор Оди, ты ведь меня не знаешь…
– На заре молодой, а ныне похороненной и пытающейся возродиться из наслоений дерьма цивилизации каждый гоблин хорошо знал: если он возьмется за дело – за любое, сука, дело! – то он обязан либо выполнить его, либо сдохнуть! Просрешь дело, на которое сам и вызвался, – и вождь без раздумий перережет тебе глотку, а тело бросит в пыли между шатрами. Чтобы другие видели, как ты корчишься на земле, как хрипишь и плюешься кровью, как твои выпученные глаза медленно угасают… И чтобы никому и в голову, сука, не пришло в следующий раз браться за дело, если не уверен, что сумеешь его завершить. И чтобы никому в голову и прийти не могло, что самые поганые в этом мире словечки «Я пытался!» имеют какую-то волшебную силу и могут защитить от лезвия ножа… Нет, сука! Не могут! Но так было раньше… а сейчас дерьмоеды вроде тебя, не хотящие напрягаться по-настоящему, не хотящие прикладывать все силы без остатка, не хотящие бежать за подраненным оленем так далеко и долго, чтобы в конце выплюнуть окровавленные легкие на песок, но оленя догнать, убить, а затем сдохнуть на нем же, зная, что племя теперь не умрет с голоду… сейчас дерьмоеды вроде тебя процветают. Снова. Снова, с-сука… и снова это меня бесит. Я никогда не понимал и не понимаю, почему таких, как ты, просравших все подаренные им шансы, наплевавших на все обязательства… я не понимал и не понимаю, почему таких, как вы, оставляют в живых.
Сесил испугался. Вот теперь он испугался по-настоящему. Шест в его руках подрагивал, плечи мелко дрожали, но мы продолжали плыть между полуразрушенными зданиями, и плот шел в два раза быстрее, чем прежде. Сесил мечтал добраться до цивилизации… мечтал добраться до свидетелей… Почему? Потому что он наконец-то ощутил исходящую от меня угрозу. Но при этом он все еще не понимал причину моей злости. И сейчас он сделает очередную попытку оправдаться…
– Каждый может ошибиться! – он даже улыбнулся, нервно расчесывая покрытое красными струпьями бедро. – Каждый заслуживает второго шанса, сеньор Оди!
– Не всегда, – ответил я, продолжая крутить в пальцах сувенир. – И это тоже ложь, выдуманная для оправдания ленивых и трусливых ублюдков. Не всегда надо давать второй шанс, Сесил! Если тебе доверили пристрелить предателя племени, а ты дрогнул и отпустил врага, который уже завтра вернулся с подкреплением и вырезал половину племени – ты заслуживаешь второй шанс?
– Но… это уже совсем другое!
– Ну да, – с кривой усмешкой кивнул я. – Это уже совсем другое, да?
– Совсем другое! Мне такого не поручали, сеньор! Мерде! Я бы не дрогнул! У меня как-то была хорошая наваха, и я бы без раздумий вонзил ее в сердце предателю! Я бы не дрогнул! Тут ты неправ, сеньор Оди!
– Вот тебе другой пример, – кивнул я. – Представь, что ты раб, прикованный ко лбу каменной гимнастки, а твоего хозяина нет дома. Представь, что хозяин сказал тебе четко и ясно: вот веревка активации ловушки, дернешь ее, когда любой, я повторяю, когда любой чужак вздумает вплыть в здание. И дернуть веревку ты должен в нужный момент – чтобы упавшая сверху глыба раздавила к херам чужака. И у тебя есть только одна попытка. И вот ты дергаешь гребаную веревку, камень падает, но ты дернул слишком рано, и ловушка сработала впустую. Чужак выжил. И теперь ты плывешь с этим самым чужаком на его плоту где-то в руинах и рассуждаешь о том, что каждый заслуживает второй шанс… или третий… или четвертый, а там можно дать и пятый шанс в очередной раз обосравшемуся упырку… верно?
– Дерни я вовремя – и ты бы умер, сеньор, – напомнил Сесил.
– Нет, – возразил я. – Плот мой ты, быть может, и расхерачил бы. А вот я сам выжил бы и отстрелил тебе яйца.
– Вот видишь, сеньор Оди! Вот видишь! Значит – я не облажался!
– Но шанс меня убить у тебя все же был, – заметил я. – Крохотный, но был. И прихлопни ты меня, выполни порученное тебе дело – заслужил бы чуток уважения старого Рыбака Мумнбы, а он ведь гоблин с непростым прошлым. Мог бы замолвить за тебя пару словечек… Но ты облажался, Сесил. Снова облажался. Опять. Провалил порученное тебе дело.
– Но ведь все сложилось к лучшему, сеньор!
– Но тебе было поручено не о будущем рассуждать. Тебе было сказано вовремя дернуть сраную веревку. А ты поторопился…
– Но я старался!
– Ни хера ты не старался, – буркнул я. – Раз я жив – значит, ты не старался. А раз ты здесь – на плоту со мной – значит, ты просрал еще одну вакансию. В буквальном смысле.
– Не понимаю…
– Убей ты меня, докажи свою полезность – и старый Мумнба, быть может, оставил бы тебя при себе. Сытное спокойное будущее. Редкие вылазки в город и вечера в кантине…
– Всю жизнь ловить рыбу на окраине и спать на вонючей подстилке? – рожу Сесила перекосило так сильно, что даже плот чуток курс изменил. – Не для это этого меня мама рожала!
– Да уж, – согласился я. – Не для этого. Рыбаком не каждый может стать. А вот лить понос в воду – каждый сможет. Тут ты и пригодился, да?
– Я еще поднимусь, сеньор! И поднимусь скоро! – он опять выпрямился, заулыбался, с силой заработал шестом, заставляя плот с плеском идти по ковру из красных водорослей. – Уже сегодня я начну! Верну все потерянное! И уже знаю, с чего начну!
– И я знаю, – хмыкнул я.
– Знаешь?
– Конечно, знаю. Ты предсказуемый, Сесил. И не умеешь сдерживать эмоции. То, как ты внимательно слушал наш с Рыбаком разговор, чавкая там, наверху, то, как ты сейчас поглядываешь на меня, когда думаешь, что я не замечаю… ты ведь уже решил меня сдать кому-то из своих весомых знакомых там, в городе. Ты уже понял, что чужак я явно непростой, говорю странные вещи, прибыл неизвестно откуда и везу на своем плоту неизвестно что. Ты уже представил себе, как вприпрыжку добегаешь до важного знакомого и ему, только ему и только в мохнатое ухо шепчешь важную инфу о подозрительном чужаке и его подозрительных разговорах с вроде бы исчезнувшем наконец с радаров старым телохранителем. Ты обязательно расскажешь, с радостными всхлипываниями и ухмылками, про то, что у старого Рыбака, оказывается, есть целый арсенал и подготовленные огневые точки там, на окраине, что у него где-то большая богатая кладовка и наверняка там найдется тяжелый мешок звонких песо. Так, может, старому Рыбаку пора поделиться? Ты уже представил, как тебя за это хвалят, дают приличную одежу, отсыпают сколько-то монет, и ты снова во весь опор несешься… нет, не к просранной тобой семье, чтобы поделиться с ними деньгами, а в ближайшую кантину, где тут же закажешь самую дорогую жратву с бухлом и начнешь всем вещать, что Сесил наконец-то вернулся, уже пригодился и вот-вот начнет подниматься все выше и выше…
– Я… – побелевший Сесил попытался выдавить из горла что-то еще, но не сумел и замер на носу плота неподвижным изваянием.
– Да, Сесил, да, – кивнул я. – Твое лицо выразительно, как натертая о камни алая жопа гамадрила – видна каждая эмоция, предсказуемо каждое будущее действие. Ты уже решил нас всех сдать, поиметь с этого бабла, набухаться, снять пару шлюх, потратить все деньги… А утром следующего дня, протрезвев, уняв похмелье остатками из бутылки под кроватью, ты будешь валяться, смотреть в потолок и прикидывать, как бы раздобыть еще деньжат, как бы прилипалой зацепиться за кого-нибудь весомого, чтобы за его счет припеваючи жить как можно дольше и подняться повыше – ни хрена при этом не делая, если только не считать облизывание нависающих жоп работой… Но при этом ты у нас гоблин разборчивый… ты мог попросить Мумнбу Рыбака приютить тебя, изменить тебя, дать работу – да, сука, работу тяжелую, выматывающую, но честную! Ты бы мог попросить ради своей семьи эту работу и каждый месяц отвозил бы им заработанные деньги. Но надо ведь пахать, да? Тянуть тяжелые сети, вытягивать сучьи крабовые ловушки, рвать кожу о ядовитые шипы рыб… а не для этого тебя мама родила, да? Еще ты бы мог попросить меня – чужака – взять тебя с собой, чтобы не возвращаться в город, где твоя репутация на самом дне. Ты бы мог попроситься уйти со мной – неизвестно куда, но почему не попытать удачи в пути хотя бы на полгода? Подзаработать, набраться умений, вернуться домой победителем, а не жалким членососом эсклаво… но это ведь надо куда-то плыть, работать шестом, спать в руинах… а тебя не для этого мама родила, да?
– Я… да я не… не собирался никому про вас и Мумнбу… я уважаю!
– Ты никого не уважаешь, – усмехнулся я. – В твоей голове просто нет этого понятия и никогда не было. И никаких жестких принципов у тебя тоже нет, Сесил. И ты до сих пор не задал главный вопрос…
– Это какой?
– Почему я трачу на тебя свое время, объясняя все это, раз ты такое неисправимое дерьмо…
– И почему? – в его уже не блестящих глазенках заплескалось что-то темное, скрываемое, но у него снова не получилось сохранить нечитаемую бесстрастность. – Почему, сеньор Оди? Я хочу услышать ответ. Ведь мы уже рядом с домом…
– Потому что мне было скучно в пути, и я просто коротал время, – ответил я, опуская руку в прозрачную воду. – А еще потому, что мне надо почаще напрягать мозги – так больше шансов вернуть утонувшие во тьме воспоминания. И мне полезно вернуть себе хотя бы азы сучьей дипломатии и словоблудия – так проще затеряться в юном первобытном мире. Так легче узнать нужную информацию. Поэтому я и учусь заново говорить долго и умно, а на тебе я практиковался, хотя прекрасно понимал, что на тебя бессмысленно тратить слова…
– Бессмысленно тратить на меня слова?
– Да.
– Потому что я неисправим, да, сеньор? – темного плескания в его обиженных глазенках прибавилось.
– Нет, Сесил, – улыбнулся я. – Не поэтому.
– А почему же тогда? Подскажешь, сеньор, раз ты такой умный?
– Потому что ты умер, – ответил я, вытаскивая руку из воды и почти без замаха отправляя выуженный снаряд в полет.
Камень размером с куриное яйцо влепился Сесилу в переносицу с глухим стуком. Его глаза потухли мгновенно. Шест выпал из обмякших рук, а следом в воду рухнул сам Имбо.
Встав, я поймал плывущий мимо шест и с его помощью парой движений утопил обмякшее тело и загнал его в черноту проглядывающегося под бетонной плитой пространства. В таких очень любят селиться крабы, осьминоги и всякая прочая хищная живность. А плита не даст выплыть даже раздутому от газов трупу. Встав в центре плота, я повел плечами, разминаясь, а затем погнал плот к выходу на широкую улицу, откуда доносились частые гортанные возгласы, вроде как свиной визг и громкий хохот. Я шел на звуки цивилизации…












