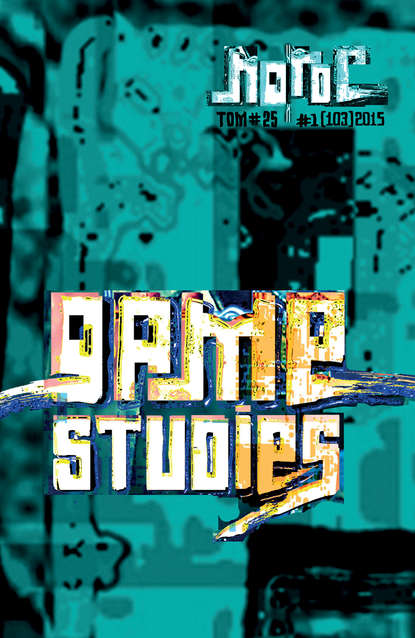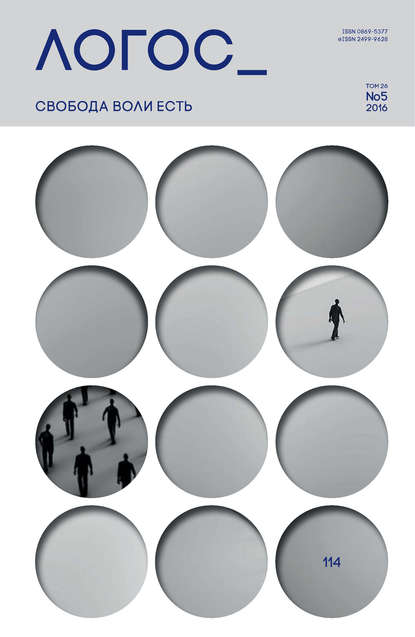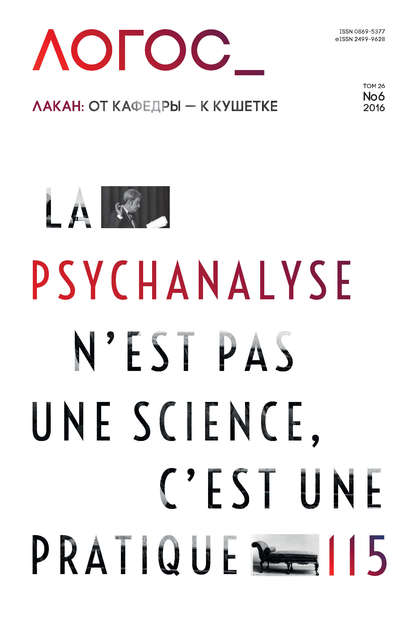Полная версия
Журнал «Логос» №2/2025
Если вернуться к разным значениям термина «декаданс», их можно свести к двум: широкому и узкому. Когда говорят о декадансе в широком смысле, под таковым понимают эпоху общественного и культурного упадка (под упадком чаще всего разумеют дезорганизацию работы общественных институтов, падение нравов, пессимистическую атмосферу, чувство безнадежности, предчувствие неминуемого конца, изощренность и усложненность формы в изобразительном искусстве, эклектику и бескрылый функционализм в архитектуре и т. д.). В узком же значении декаданс указывает на особое настроение и специфическое понимание искусства в литературно-художественных кругах и образованном обществе Европы последней трети XIX – начале XX века.
Смысловое содержание декаданса остается предметом заинтересованного обсуждения в академическом сообществе. Кто-то оперирует им как понятием[33], а кто-то видит в нем емкую в смысловом отношении метафору[34]. Что касается меня, то в недостаточной определенности декаданса я вижу стимул к размышлению над ним как феноменом современной эпохи. Многозначность термина «декаданс» обусловлена – предположительно – сложностью феномена декаданса.
Оставляя в стороне специфику декаданса в той форме, которая была характерна для Поздней Римской империи, я сосредоточусь на прояснении природы упадка в условиях современности (модерна). Если исходить из понимания декаданса как «медленной и кажущейся необратимой эволюции к худшему или к ничто»[35] и применить его к истории новоевропейской культуры (то есть рассматривать декаданс в макроисторическом масштабе), это даст возможность глубже понять истоки декаданса как направления в литературе и искусстве конца XIX – начала XX века.
Именно в современном обществе XIX века, в «эпоху прогресса», европейцы стали использовать термин «декаданс» для самоописания. Причем не только в XIX и XX веках, но и в наши дни. Декаданс вошел в язык мышления в XVIII веке, но если тогда он служил для описания умершей культуры, то в XIX столетии с его помощью стали описывать явления современной жизни. Причем те, кого в декадансе обвиняли (во всяком случае – часть из них), вскоре признали себя таковыми, как, например, Верлен: они согласились (конечно, не без эпатажа почтенной публики), что упадок – это именно то, что определило их творческое настроение.
Но как такое стало возможно? Что стоит за включением «декаданса» в язык саморефлексии европейской культуры? Что сделало его одной из форм самосознания образованного класса? Как объяснить готовность творческой и академической элиты осмыслять современные им культуру и общество в терминах упадка, заката, деградации в то время, когда Европа быстро менялась, богатела, строилась, когда все в ней росло как на дрожжах? Может быть, дело в том, что там, где жизнь общества и человека оценивают в терминах развития и прогресса, с неизбежностью придется говорить и об упадке и разложении? Быть может, современность просто немыслима без декаданса? Если предположение верно, тогда появление декадентского искусства, декадентского стиля жизни и настроения представляется вполне закономерным[36]. В данной перспективе в регулярном возвращении моды на декаданс трудно не увидеть один из симптомов современного (модерного) состояния европейского общества. Дальнейший анализ покажет, почему мысль об упадке не оставляет европейское самосознание на протяжении двух последних столетий.
Современность: жизнь вразброд
Связав декаданс как термин самоописания с современностью, следует остановиться на особенностях этого периода европейской истории. В западной традиции модерном часто называют период Нового и Новейшего времени в целом, но я буду пользоваться терминами «современность» и «модерн» для обозначения культуры, берущей начало с конца XVIII века. Этот период нередко определяют как Позднее Новое время. Я исхожу из того, что причину декаданса как примету современного сознания следует искать в духе этой эпохи.
Раннее Новое время: под сенью большого стиляНовое время – эпоха гуманизма – отталкивается от Средних («темных») веков. При этом Раннее Новое время существенно отличается от Позднего[37]. Эмансипация человека от Бога, мира и общества начинается в эпоху Возрождения, но до конца XVIII века общество оставалось религиозным и сословным. Реалистическая (в средневековом значении этого слова) логика еще доминировала над логикой номиналистической. Отдельный человек был вписан в коллективное тело социума с его сословиями, цеховыми корпорациями, священной фигурой монарха, церковью и верой в Бога[38]. Сергей Аверинцев справедливо заметил, что европейский рационализм рождался дважды: в античности и в Новое время (здесь ключевые фигуры – Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт), отмечая, что прежний тип рациональности и культуры не сразу сошел со сцены, а продержался примерно до XVIII века, до Вольфганга Амадея Моцарта и Жана де Лафонтена. Аверинцев обращал внимание на то, что это была культура, основанная на «равновесии индивидуального и абстрактно всеобщего; критики и аксиом, постулатов, о которых не спрашивают»[39].
По установке, закрепившейся в сознании высших слоев общества еще во времена Возрождения и Реформации, и по тому направлению, в котором происходили изменения, общество становилось современным, но таковым еще не стало. Люди из высших слоев общества сознавали себя самостоятельными субъектами и в том, что касается земной жизни, все больше полагались на себя и свои силы. Но духовным основанием общества в этот период по-прежнему оставалось христианство. Самоидентификация осуществлялась, исходя из веры и сословной принадлежности, свое бытие люди той поры осмысляли в терминах служения, призвания, долга, чести и т. д. Цели в таком обществе были заранее заданы, определены, так что волю, разум и жизненные силы можно было концентрировать на их реализации. Признание человеком своей производности (от Бога, природы) поддерживало миметическое отношение как к природным и социальным формам, так и к Богу и духовным авторитетам.
Доминирование целого над частным с особой наглядностью обнаруживало себя в искусстве. Художник жил под куполом больших стилей, в которых дух его времени находил выражение на уровне формы, охватывавшей все сферы жизни и большую часть Европы. В большом стиле выражалось духовное единство, проявлявшее себя во множестве душ и народов одним и тем же образом. Возрождение, барокко, классицизм как большие стили не были для художников прокрустовым ложем, внешним принуждением, насиловавшим их творческую волю. Множество отличных друг от друга произведений, созданных в одном стиле, были выражением одного и того же духа. Стиль был воздухом, которым дышали и художники, и те, кто им внимал. Заранее данная форма облегчала творческий процесс, обеспечивала коммуникацию с публикой и позволяла сфокусировать внимание на решении конкретной художественной задачи[40].
Это была эпоха мастеров, а не авторов как творцов новых форм и неповторимых по содержанию произведений, способных увлечь оригинальностью замысла, воображением и полетом фантазии. Ни мастер от себя, ни публика от мастера оригинальности не требовали. В эпоху больших стилей купол вечности, распростертый над сущим, еще не был разрушен, Бах мог сочинять мессы, не задумываясь над тем, насколько нова и оригинальна его музыка, вечное еще определяло временно́е. В искусстве Раннего Нового времени художники исходили из того же, из чего исходили и верующие: есть нечто совершенное, безусловное и есть его образцовые выражения в природе, людях и искусстве. Образцы и темы для авторского воспроизведения они обретали и в античности, и в христианстве. Человек мыслился свободным в рамках целого, в рамках традиции, художник – в рамках большого стиля.
Понятно, что в таком обществе ни развитие, ни упадок не могли стать терминами, определяющими самосознание и оценку индивидуального и общественного бытия. Не рост или упадок приковывали внимание, а добро и зло, Бог и человек, спасение и гибель. В земном мире нет ничего постоянного, в нем подъем чередуется с упадком, а то, как закончится история человечества, – уже известно из Евангелия. В мире, где самое главное (Рождение и Воскресение Спасителя) уже случилось, в мире, живущем эсхатологическим ожиданием конца света, важно было отличить божественное от дьявольского, а не развивающееся от упадочного. Развитие в терминах добра и зла само за себя не говорит. Злоба, зависть, гордость тоже могут развиваться; развиваются и приводят к смерти болезни. Там, где правит целое (где исходят из того, что вечно), темпоральные понятия не могут определять достоинство человека и общества, не могут служить для его оценки.
Переход к Позднему Новому времени связан со сломом традиционного общества и установлением строя, в котором общепринятым мерилом благополучия/неблагополучия человека и общества как раз и становится ценностное противопоставление развития упадку, прошлого – будущему.
Современный человек в его отношении ко времени и вечностиПримерно с конца XVIII века шарнир времени повернулся, и европейское общество стало современным не только по тенденции, но и по состоянию умов, прежде всего умов горожан. Современностью называют особый тип общества, в котором за точку отсчета принимается не целое, а частное. Человек как частное лицо признается автономным субъектом, определяющим те области жизнедеятельности, в которые он вовлечен: хозяйство, политику, социальные институты, культуру. Понятно, что реализация данной установки свидетельствует об утрате общественной жизнью связи с религией как упорядочивающей инстанцией. Вера воспринимается теперь как частное дело частного лица. Вера перестала быть собирающим началом, а общественная жизнь приобрела секулярный характер.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Вот свидетельство родившейся в 1867 году Эдит Гамильтон для англоязычного мира: «Когда благодаря переводам Гилберта Мюррея Еврипид стал широко известным автором, читателей поразила его современность» (Hamilton E. The Greek Way. N.Y.: Norton, 1963. P. 198). При этом не имеется в виду созвучность Еврипида именно декадентским настроениям.
2
Sedley D. Epicurus and the Mathematicians of Cyzicus // Cronache Ercolanesi. 1976. № 6. P. 23–54.
3
См.: Ярхо В. Н. У истоков европейской комедии. М.: Наука, 1979. С. 3–8.
4
«Брюзга» здесь и далее цитируется в переводе Соломона Апта.
5
Кнемон все же должен быть как-то наказан, чтобы в комедии восторжествовала справедливость (Gomme A. W., Sandbach F. H. Menander. A Commentary. L.: Oxford University Press, 1973. P. 268).
6
В любовной истории, представленной у Менандра, есть еще одна достойная внимания особенность: «Первый раз предметом любви юноши оказалась не гетера или отпущенница, а свободнорожденная афинская девушка, и впервые она показана на сцене, хотя и в незначительной по размерам роли» (Тронский И. М. Новонайденная комедия Менандра «Угрюмец» («Человеконенавистник») // Вестник древней истории. 1960. № 4 (74). С. 71).
7
Lape S. Reproducing Athens: Menander’s Comedy, Democratic Culture, and the Hellenistic City. Princeton: Princeton University Press, 2004. P. 134–135.
8
Панченко Д. В. Гомер. «Илиада». Троя. СПб.: ЕУСПб, 2016. С. 76–80; как ни странно, это часто недооценивается.
9
Simonton D. K. Genius, Creativity, and Leadership. L.; Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984. P. 157.
10
Из-за дефекта рукописи эта дата, будучи обоснованно общепринятой, все же не является абсолютно надежной. См.: Gomme A. W., Sandbach F. H. Op. cit. P. 128 f.
11
Handley E. W. The Dyskolos of Menander. L.; Methuen, MA: Harvard University Press, 1965. P. 7.
12
Прекрасный обзор обсуждаемого периода времени дает Христиан Хабихт, см.: Хабихт Х. Афины. История города в эллинистическую эпоху / Пер. с нем. Ю. Г. Виноградова. М.: Ладомир, 1999. С. 14–71, 100–124.
13
Тронский И. М. История античной литературы. 3-е изд. Л.: Ленучпедгиз, 1957. С. 201, 206.
14
Менандр. Комедии. Фрагменты / Подг. В. Н. Ярхо, отв. ред. М. Л. Гаспаров. М.: Наука, 1982. С. 355.
15
В другой связи это, конечно же, уже отмечалось: Reckford K. J. The “Dyskolos” of Menander // Studies in Philology. 1961. Vol. 58. № 1. P. 2, n. 3.
16
Эти фразы в связи с Менандром и новой комедией уже вспоминали: Тронский И. М. Новонайденная комедия Менандра «Угрюмец». С. 59–60; Konstan D. Comedy and the Athenian Ideal // The Hellenistic Reception of Classical Athenian Democracy and Political Thought / M. Canevaro, B. Gray (eds). Oxford: Oxford University Press, 2018. P. 119.
17
Об этом декрете и его неожиданном использовании в не очень давней американской политической жизни см.: Панченко Д. В. Эллинизм Роберта Кеннеди // Неприкосновенный запас. 2024. № 1. С. 144–147.
18
О характере новой аттической комедии в известной мере можно судить по дошедшим переработкам ее образцов у Плавта и Теренция.
19
Конрад Н. И. О литературном «посреднике» // Избр. тр. Литература и театр / Отв. ред. М. Б. Храпченко, сост. А. И. Владимирская. М.: Наука, 1978. С. 60–71, особ. 68–69 со ссылками на недоступные мне японские работы.
20
В отличие от европейского, эллинистический гуманизм не мог включить в себя последовательную установку на усовершенствование окружающего мира. См.: Панченко Д. В. Когда закончилось Новое время? // Неприкосновенный запас. 2009. № 5. С. 45 сл.
21
Перикл, чьи слова передает Фукидид, убежден, что Афины будут вызывать удивление отдаленных потомков, а сам Фукидид называет свой труд «достояние навеки».
22
Среди недавних работ: Flower H. I. Sulla’s Memoirs as an Account of Individual Religious Experience // Religion in the Roman Empire. 2015. Vol. 1. № 3. P. 297–320; Noble F. M. Sulla and the Gods: Religion, Politics, and Propaganda in the Autobiography of Lucius Cornelius Sulla. PhD thesis. Newcastle: Newcastle University, 2014.
23
См.: Панченко Д. В. Римские моралисты и имморалисты на исходе Республики // Человек и культура. М.: Наука, 1990. С. 73–80.
24
Здесь и далее Петроний цитируется в переводе А. К. Гаврилова (Римская сатира / Сост. М. Л. Гаспаров. М.: Художественная литература, 1989. С. 131–235).
25
Ярхо Б. И. Предисловие // Петроний. Сатирикон. М.: Вся Москва, 1990. С. 23–24.
26
В паре «расцвет и упадок» умы римлян особенно занимала проблема упадка. «Широко говоря, было три объяснения упадка – объяснение в категориях морали; объяснение в категориях политических перемен, и объяснение, постулирующее некий фундаментальный закон, в силу которого за расцветом неизбежно следует упадок» (Williams G. Change and Decline: Roman Literature in the Early Empire. Berkeley, CA: University of California Press, 1978. P. 7). Об аспекте расцвета см.: Панченко Д. В. Культурный расцвет в Афинах в V веке до н. э. в сравнительно-историческом освещении // Вестник древней истории. 2012. № 2. С. 142–154.
27
Плиний Старший называет его Титом (HN XXXVII, 20).
28
См.: Rudich V. Political Dissidence under Nero: The Price of Dissimulation. L.: Routledge, 1993.
29
Панченко Д. В. Уютопия римских вилл: письма Плиния Младшего в гуманистической перспективе // Логос. 2024. Т. 34. № 6. С. 135–156.
30
Заявка на превращение декаданса в термин рационального мышления была сделана еще в XVIII веке Шарлем Монтескьё в работе «Рассуждения о причинах величия и падения римлян» (1734), см.: Монтескьё Ш. Размышления о причинах величия и падения римлян / Пер. с фр. А. Я. Поленова. СПб.: Лань, 2013.
31
О культурном, этическом, социальном декадансе применительно к истории XX века много говорилось по разным поводам. Но особенно часто – при анализе общественной и культурной жизни Европы и Америки 20-х годов прошлого века: «ревущие двадцатые» (Roaring Twenties) в США, «безумные двадцатые» (années folles) во Франции, «золотые двадцатые» (Goldene Zwanziger) в Веймарской Германии.
32
Преображенский В. и др. «Бархатное подполье». Декаденты современной России. М.: Спорт и культура, 2015.
33
См.: Брагина М. С. Этопея Сара Пеладана «Латинский декаданс» и семантика концепта Décadence во Франции 1880-х годов // Новый филологический вестник. 2016. № 2 (37). С. 155–166; Савельев К. Н. Новые подходы в осмыслении понятия «Декаданс» // Знание. Понимание. Умение. 2007. № 1. С. 141–146.
34
Зенкин С. Н. «Декаданс» в идейном контексте современности // Неприкосновенный запас. 2014. № 6. С. 113–132.
35
Конт-Спонвиль А. Философский словарь / Пер. с фр. Е. В. Головиной. М.: Этерна, 2012. С. 142.
36
Стоит подчеркнуть: в этой статье не ставится цель проанализировать декаданс как феномен литературы и искусства. Декадентство в искусстве – это отправная точка, повод задуматься над тем, что стоит за использованием этого термина.
37
Кто-то из историков относит начало Нового времени к XV веку, кто-то – к концу XVI века. Однако в том, что касается его окончания, историки сходятся, сознавая всю условность точных датировок, на революции 1789 года.
38
В образной форме это можно представить как переход от иконы к картине. С иконы, витража, мозаики, средневековой росписи на человека смотрит Бог, на картине, изображающей библейские сюжеты, на Бога смотрит человек.
39
Аверинцев С. С. Два рождения европейского рационализма и простейшие реальности литературы // Человек в системе наук. М.: Наука, 1989. С. 339.
40
Вейдле В. В. Умирание искусства. М.: Республика, 2001.