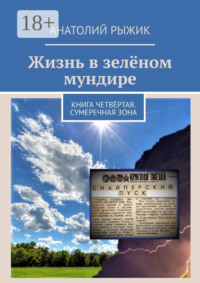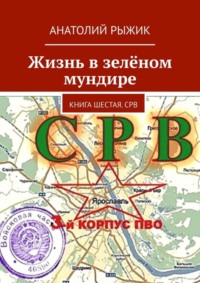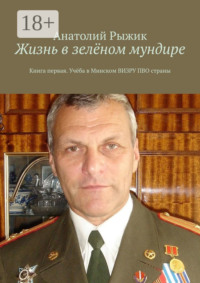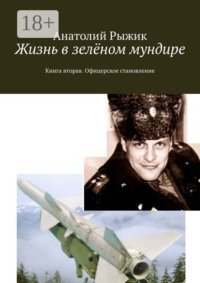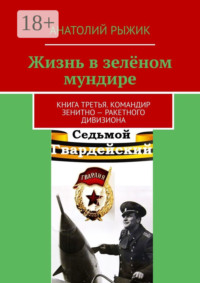Полная версия
Жизнь в зелёном мундире. Книга пятая. Придворный полк
И обращаясь ко мне:
– «После совещания пойдёшь с генералом Фирсовым. Он лично проверит уровень твоей технической подготовки, знаний, наставлений, руководств и приказов. Короче – всего того, о чём он сочтёт необходимым тебя спросить.
Вечером при подведении итогов будешь присутствовать. Посмотрим результат собеседования».
Казалось ясным: всё предрешено, раз вопрос поднят Командующим округом, но я думаю, что это была инициатива самого Анохина.
Решение Командующего – прикрытие, вдруг опять напишут жалобу. Генерал отлично знал ситуацию, сложившуюся на полигоне (не раз я, находясь в боевых порядках отчитывался перед ним и комкором о ходе проводимого следствия).
Знал и решил мне помочь. Собеседование так, «для галочки» – думал я. Это оказалось не так.
Три с четвертью часа длилось собеседование с генералом – доктором технических наук. Очевидно, он не понимал интриги происходящего и опрашивал, гоняя меня как на сдаче кандидатской диссертации.
Надо отдать должное – с ним сложно было общаться: более классного специалиста по зенитно-ракетным комплексам я не встречал. Корифей – заниженная оценка его знаний.
Иногда задавая вопросы, и видя моё удивление, он сам себя останавливал:
– «Нет, на этот вопрос не отвечай, этого ты знать не можешь. Это новая разработка второго научно-исследовательского института – её ещё в войсках нет». Иногда он меня поддерживал:
– «Правильно говоришь. Это так называемый Читинский эффект. Мы при исследованиях над его устранением работали два года, но в конце концов всё-таки добились что…». Генерал был учёным, а не командиром. Он забыл, что приехал в полк не только по мою душу, но и по другим вопросам. Стал закругляться только тогда, когда я ему скромно заметил, что до подведения итогов осталось менее получаса.
– «Спасибо, а то я слишком увлёкся беседой с Вами» – сказал он: – «заканчиваем».

Первые дни в должности и в своем кабинете
Мнение его о результате опроса я не спросил – у меня сложилось впечатление что отвечал неплохо. Тем более результат собеседования ждать оставалось совсем не долго. При подведении итогов работы в полку Командующий ЗРВ сказал:
– «Рыжик собеседование выдержал. Мы доложим Командующему Округом, что он достоин назначения на должность».
Командир полка задёргался и пытался что-то сказать, но генерал его «успокоил»:
– «Не волнуйтесь Карвацкий, ждать придётся не долго. Считайте вопрос решённым.
Мы всё подготовим – приказ состоится быстро».
Через неделю после отъезда генералов мне сообщили: пришёл приказ. Я стал заместителем по вооружению командира 48-го зенитно-ракетного полка.
В дальнейшей службе с майором Невельским у меня проблем не было: служили, проводили мероприятия, но всегда командовал я. На горло ему не наступал, скорее наоборот – давал послабления. И всё же я всегда чувствовал, что Невельского в моём присутствии что-то давит, он как-то скован и напряжён.
Нет той простоты, которая бывает среди товарищей. Вячеслав Аркадьевич уволился майором при достижении предельного возраста.
Сначала мы изредка контактировали. Невельский пока был более-менее здоров (у него в армии случился инфаркт) занимал серьёзную должность на гражданке.
Мы встречались, но я видел, что ощущение какого-то барьера в наших отношениях у него не прошло. Я же отношусь к этому спокойно – совесть моя чиста.
Никаких интриг, никакой борьбы и даже элементарных потуг для получения должности я не делал. Ни в этот раз, да и никогда.
Если и получалось перейти дорогу кому-то, то это происходило не по моей воле, а свыше.
В те времена я не знал выражения:
«Лучше потерять мундир в борьбе за честь, чем честь в борьбе за мундир».
Не знал, но всегда пытался ему следовать.
Часть 2
Не суйся запевалой и горнистом,
Но с бодростью и следуй и веди;
Мужчина быть обязан оптимистом
Всё лучшее имея впереди!
Обустройство
Тем временем дочка Маша тоже выдержала свой первый экзамен в общении с городской детворой, которая резко отличалась от детей, проживающих в лесном гарнизоне. На Соколе, когда она выходила гулять во двор, все прогулки заканчивались её избиением, и она прибегала домой вся в слезах.
Анна разобралась: во дворе есть лидер, девчонка из четвёртого класса. Физически крепкая – ходит в гимнастическую секцию. Маша, имеющая своё мнение при решении детских игр, мешала ей «вести стаю», за что и получала тумаки.
Анна посоветовала Маше: дай сдачи, когда та будет приставать. Дочка у нас послушная: выйдя на прогулку, она сразу подошла к этой девочке и, не дожидаясь от неё приставаний ударила её.
Та опешила так, что, Маша успела добежать до дома и радостно доложить Анне:
– «Я первая дала сдачи!».
Дело могло принять нехороший оборот, и в «бой пошла тяжёлая артиллерия» – Анна сама пошла на улицу: разбираться. Сделала она это очень мудро. Подошла к девочке, спросила, как её зовут, и сказала:
– «Послушай, ты знаешь Машу? Мы недавно приехали сюда, а к ней во дворе всегда кто-нибудь пристаёт и обижает её. Ты здесь самая взрослая: пожалуйста, посмотри, чтобы её никто не обижал. Обещаешь?».
После такого разговора проблемы с избиениями нашего ребёнка закончились, более того девчонка строго смотрела за «безопасностью» Маши.
В выходные дни мы не сидели дома. Прогулки прогулками, но не одни же они! С первых дней проживания в городе стали расширять зону отдыха. Начали с кинотеатров. Конечно, Анютка ещё не могла выдержать просмотр фильма целиком, даже если он был детским. Мы избрали следующую тактику: в субботу Анна выходит в кинотеатр с Машей, в воскресение – я. Ходили смотреть в основном детские и приключенческие фильмы, поэтому будем считать, что Маше повезло вдвойне.
Если с квартирой повезло, то с питанием возникли сложности: полки магазинов в то время были пустыми.
Идя по городу, мы с улицы видели витрины, на которых сверху донизу были выставлены банки консервов морской капусты. Всё.
Больше ничего.
Обеспечение было плохим и шло через магазины предприятий.
Был такой и в полку. Работал он «по рангам». Первым шёл командир и замы. Затем начальники служб, затем штабные офицеры и т. д. Причём каждой категории нарезалась доля в зависимости от количества привезённого.
На Соколе тоже был свой магазин военторга для жителей, в котором всегда была толкучка: то в ожидании привоза, то уже шла борьба за привезённый товар. Утром к нему выстраивалась очередь за молоком, которого хватало максимум на сорок минут реализации. Поэтому ранёхонько утром Анна с двухлитровым бидончиком шла за его добычей.
Пока я занимал должность начальника службы, обеспечение семьи было неплохое. Неплохое, но не сравнимо с возможностями командира дивизиона, то есть с тем как мы питались в лесу, когда стояли на довольствии со склада части.
После того как я стал заместителем комполка, проблема питания была снята полностью – хватало покупаемого с избытком, даже иногда отдавали знакомым.
При моём статусе замкомполка стало легче и Анне: заведующая магазином посёлка Сокол начала оставлять ей молоко и кое-какой товар.
Если упомянуть о привилегиях полковой жизни, то их было не мало. Кроме обеспечения в магазинах это:
– Питание в командирском зале офицерской столовой, причём без стояния в очереди.
– Командирская баня на территории полка (ей могли пользоваться все офицеры полка, но был «командирский» день).
– Служебный УАЗ-469, который я мог иногда использовать для семейных дел. Так в полку было принято испокон веков. Даже самые ядовитые недоброжелатели не обращали на это внимания. Я этим не злоупотреблял, но дочку с её подругами (детьми офицеров и прапорщиков) отвозил довольно часто в школу, которая находилась в двух километрах от штаба.
– Обеспечение всеми видами довольствия было качественным и своевременным.
– Медицина, а особенно зубной врач (кстати помощь оказывалась и для членов семей).
Однако самым важным положительным фактором являлись путевки в санаторий. Они были доступны всем офицерам, но очевидно на придворный полк их выделяли больше, чем на другие части.
Были некоторые привилегии для командования полка, которые воспринимались как должное и не обсуждались подчинёнными. В то время не только я пользовался изречением К. Маркса, (сам не читал, а мне его пересказал замполит, когда я служил в дивизионе) – мол на знамени коммунизма начертаны слова:
«С кого больше спрос – у того больше прав!»».
(Может и нет таких слов, но это всех устраивало).
При каждом переезде к новому месту службы военнослужащему выдаётся денежное пособие на него и членов семьи. Так называемые «подъёмные». Получив их, мы решили купить мебель – наша квартира была пуста, только на полу лежали ковры, стояли четыре кровати (две из них солдатские) и шкаф с потрескавшейся от перевоза по морозу полировкой. Чтобы купить мебель, надо было рыскать по магазинам – попасть на привоз, иначе она сразу раскупалась.
Однако всё необходимое дома было. А так как деньги были получены в канун восьмого марта, то я принял решение: купить Анне золотой перстень с большим полудрагоценным камнем – он стоил как раз как мебельная стенка. Обошли все ювелирные магазины Ярославля (тогда их было не много), а купили в «Яхонте». Большой перстень с полудрагоценным камнем – гранатом (он выращен искусственно), а купили его потому, что на драгоценный камень не хватило средств. Анна его не носит, и он в целости и сохранности лежит уже сорок лет.
После покупки перстня мы всё же поменяли солдатские кровати, на которых спали Маша и Анюта на другие – самодельные. Это получилось потому что в Речном порту (через дорогу напротив штаба полка) был мебельный цех, называемый «Стройдеталь», который делал продукцию из дерева.
В основном мебель для гражданских судов. Командир ремонтной роты, которая подчинялась мне – капитан Зубарев, одними только ему известными способами проникал туда с солдатами и приносил доски, фанеру и даже частично готовые изделия. В этих вопросах Зубарев был незаменим, а в придворном полку такая необходимость возникала часто.
Однажды Зубарев, зная, что у меня нет кроватей для девочек, принёс два подвесных корабельных рундука: пенопластовых, с пластиковым покрытием и естественно без ножек. В ремонтной роте на станках выточили к этим рундукам ножки – получились почти кровати. Из материала, добытого там же на «Стройдетали» сделали к ним спинки. Получилось «супер». Девочки долго спали на этих кроватках.
В настоящее время кровати стоят на даче. Правда, спинки я переделал, сделав их из натурального дерева уже самостоятельно.
После покупки перстня для «полного счастья» нам не хватало сберкнижки.
Советский человек видевший на каждом углу плакат «Храните деньги в сберегательной кассе» считал себя счастливым (а окружающие полноценным) только тогда, когда она имелась.
Денег у нас не было, но мы её завели. Что-то положили – для начала. В год шло три процента от суммы вклада, но и это ощущение (как нам казалось халявы) было приятно.
Впоследствии мы ею пользовались, но самое удивительное, что она с гербом СССР на обложке, есть у нас и сейчас. Жаль, что лежали на сберкнижке в 1991 году всего около двух десятков рублей. Вообще-то, по тем временам тоже деньги… и не малые.

Пару лет назад, гуляя по Ярославлю мы забрели в район Сокола. Для хохмы зашли в сберкассу и спросили про свой вклад. Он был жив! Мы его не закрыли, оставив на память. Тем более что его не хватило бы даже на одну поездку в автобусе.

БССР
1980 год – год Олимпийских игр в Москве. Каким образом и зачем я ездил в этот период в Москву в командировку, уже не помню.
Когда был там, по городу разнеслась молва, что два дня назад умер Владимир Высоцкий. Я и сопровождающие меня офицеры полка съездили на Ваганьковское кладбище. Шёл третий день после его смерти. Множество людей. Горы цветов. Кто-то читает стихи Высоцкого, кто-то плачет. Обстановка горестно-торжественная.
На соревнованиях олимпиады я не был, поэтому сгусток впечатлений, связанных с 1980 годом остался от посещения Ваганьковского кладбища.
За время этой-же командировки я купил Анне подарок в новую квартиру – тюль. Как и многое по тем временам – дефицит. Красивая, сделана под Вологодские кружева, а вышито по полотнищу «Москва – 80» (В честь Олимпиады). Прочная, красивая, отдающая блеском золотых медалей Олимпиады.
А вот надпись: «Москва – 80» меня подвела. Если бы не эти слова, то может и висеть ей сейчас, но в 1991 году Анна сказала, что её пора выбрасывать – стыдно перед людьми, ей скоро сто лет. Я противился:
– «Какие сто? Всего одиннадцать и выглядит как новая. Тем более память…».
Анна была неумолима. Да и я понимал, что эта надпись как запись в паспорте! Скрепя сердце отнёс на помойку и аккуратно положил сбоку – кому-то ещё послужит.
Полоса везения тоже бывает широкой. Редко, но всё же бывает: мне выпало идти в отпуск в июле месяце. Причина проста – полковник Карвацкий стремился проводить свой отпуск на осенней охоте. Его не удерживало даже то, что полку планировались стрельбы на полигоне Сары-Шаган в составе корпуса в начале ноября.
Времени на подготовку оставалось мало, но комполка был верен себе:
– «Всё будет хорошо. Успеем подготовиться. Чего тут особенного? Полигон?
И из-за него мне и заместителям в декабре в отпуска идти? Кто так думает?» – спрашивал командир.
Почему-то так никто не думал. В том числе и я.
Надо сказать, что как не странно, но в придворном полку, независимо от возникающих сложностей и нерешённых задач (такие есть всегда) все заместители ходили в отпуск летом! Полковник Карвацкий установил жёсткий порядок отпусков: до командира полка должны отгулять все замы. Делалось это для того, чтобы, когда пойдёт в отпуск он сам все были на месте. Легче руководить первому заму.
Надо сказать, что Леонид Матвеевич отпускал офицеров и прапорщиков по семейным обстоятельствам без всяких препонов, а если они возникали, то помогал их преодолевать.
Командир помогал независимо от того как характеризуется по службе офицер. Разгильдяю он помогал точно так же как положительно характеризующемуся. Я не всегда воспринимал такие решения командира полка как разумные, но в дальнейшей службе сам постепенно начинал так делать.
Время всё ставит на свои места: только спустя годы начал понимать, насколько полковник Карвацкий был Мудрым Человеком. Он не всегда поступал как пелось в песне:
«Жила бы Страна роднаяИ нету других забот!»У него были и другие заботы: он думал и о людях, живущих в родной стране.
Я продолжал относиться к службе ревностно, но уже не до такой степени, чтобы отказаться от летнего отпуска, кроме того, был уверен: свои задачи успею выполнить.
Уход в отпуск летом внезапностью не пугает, да и проблем «для начальства» с путёвками в санаторий не бывало. Я сразу же воспользовался положением и взял путёвку в Сухумский санаторий Московского Округа ПВО.
Путёвка была только на меня – с детьми в санаторий не пускали. Решили так: едем все вместе в Сухуми: я, Анна и дети. Снимем комнату возле санатория, найдём место, где девчата будут питаться.
До начала южного отдыха было дней десять, и мы решили съездить в Белоруссию (не пропадать же отпускным дням!). Поехать туда решили тоже всей семьёй, а оттуда выехать на море.
Выехали и великолепно отдыхали на родине Анны – в простой Белорусской деревне. Особо весело было ходить за грибами, мы очень любили эти походы, благо лес недалеко. Грибов набирали множество, поэтому последующие полдня проводили в их чистке, жарке, солении.
Мои родители тоже приехали из Кронштадта отдыхать в Белоруссию, причём на своей машине.
Грех было не воспользоваться этим обстоятельством и не проехать по вновь выстроенной трассе к 22-м Олимпийским играм Брест – Москва.

Ещё три дня в деревне и – на море!
Тем более была причина – съездить к Аниной сестре в Новогрудок, который находится недалеко от новой дороги.
По некоторым данным, Новогрудок основан в 1116 году. В середине 13 века он принадлежал литовцам, затем был центром Чёрной Руси. В 14-м веке неоднократно подвергался нападениям крестоносцев и татар. Чёрная Русь – название территории в бассейне верхнего течения реки Неман с городами Гродно, Новогрудком, Слонимом, Несвижем, Здитовом.
До 13 века Чёрная Русь частично входила в состав Полоцкого княжества. В 40—60-х годах 13 века неоднократно находилась под властью литовского князя Миндовга и галицко-волынских князей. В 14 веке Чёрная Русь наряду с литовскими землями составляла основное ядро Великого княжества Литовского.
Олимпийская дорога была хороша. Вдоль неё заправочные станции, рестораны, мотели, кафешки с дефицитными напитками.
Множество иностранцев сновали по трассе на шикарных машинах – в Белоруссии проходила часть соревнований Олимпиады. Здорово!
У одной кофейни – сделанной из стекла, мы остановились попить водички. С улицы было видно, что в ней происходит, и за этим лениво наблюдал постовой милиционер – гаишник. Пока мы разминались, рядом остановилась машина с поляками – муж был за рулём, а жена и маленькая дочка были пассажирами. Поляки успели заскочить в кафе перед нами и сделать заказ – полный обед и… бутылку польской водки «Wyborowa».
Гаишник, видя происходящее через стеклянную стену – насторожился и подошёл к их машине.
Поляк налил полстакана водки и увидел милиционера, жезлом показывающего на авто: мол, ты за рулём!
Не смутился, только пожал плечами и выпил водку.
Тогда возмущенный гаишник демонстративно выкрутил ниппель из колеса польской машины, и она с шипением села на обод. Очевидно, это было сделано для того, чтобы пьяный поляк не уехал внезапно, если гаишника отвлекут водители других машин.
Вся наша семья с интересом (бросив свои дела) наблюдала чем закончится этот «международный» скандал. Мы конечно были на стороне Гаишника – мало-ли что пьяный поляк устроит на дороге!
Пообедав, иностранцы спокойно вышли из кафе. Мужчина, открыв заднюю дверь машины, завалился отдыхать, а полячка подошла к гаишнику, достала свои водительские права и произнесла:
– «A teraz, panie policjancie, pompować»
Милиционер очевидно «завис» с пониманием сказанного полькой, поэтому она повторила на неплохом русском:
– «А теперь господин полицейский накачивайте!».
Такой случай стал в те времена возможным потому, что в СССР женщина за рулём – нонсенс. Их были единицы! Гаишнику не повезло – он помповал (pompować)…
Дорога в Новогрудок проходит через красивейший, утопающий в зелени древний городок Мир. Основная достопримечательность которого – замок польского князя Радзивилла.

Сколько бы мы не проезжали Мир, всегда останавливаемся у замка. В нём в те времена только начались реставрационные работы, оплачиваемые Беларусью (говорили, что и Польским государством).
Работы идут и в наше время (в 2007 году), а замок приобрел красоту и величественность.
Сейчас на территории замка музей.
Сейчас готовя книгу к третьему выпуску, я не могу не сделать экскурс в 2019 год. Это будет не справедливо. Я думаю будет интересно посмотреть (в сравнении времён) как развивается и строится Беларусь. Точнее одно из его древних мест – посёлок Мир и замок князей Радзивиллов.
Об этом всего пару строк и фотографий.

Вид замка и прилегающая территория 2019 год
Сколько бы раз мы не бывали в Мире, мы каждый раз часами ходим по территории замка наслаждаясь сказочным видом и представляя его прошлую жизнь.
Территория со старым парком, озером (посредине которого не большой островок любви) и небольшим водопадом.
Сооружение замка огромно, с крутыми ступенями и просторными залами. Подземная часть открыта далеко не вся, но и то что мы видели страшит своей мрачностью.

В подвале для пыток
Замок настолько огромен что когда наш внук (ему было семь лет) оторвался от нас и куда-то забрел то в большой панике вся семья его искала около часа.
Выглядело это происшествие так. Когда мы вошли во внутрь младшее поколение понеслось по замку так, что среднее за ним не поспевало.
Это вскоре сказалось – потерялся внук Гордей. Через полчаса его искали уже не только мы, а все экскурсии, находившиеся в это время в замке.
Вообще-то потеряться в замке раз плюнуть – там множество всяких лазов, в которые ребёнок без труда пролезет. Ещё опаснее то, что можно неудачно высунуться в окно или бойницу, а высота замка огромна, да и внизу всё выложено камнем. Эти обстоятельства с каждой минутой усиливали наше беспокойство. Прошло более получаса поисков, как откуда-то с верхних окон замка раздался крик:
– «Нашёл!».
Оказывается, Гордей залез на самую верхотуру замка, туда, куда не было доступа туристам.
Когда внук оказался на замковой площади я его спросил, как он там оказался и что он там делал. Гордей пояснил:
– «Залез за мальчишками, а потом сидел на камне и делал им экскурсию».
– «Что за экскурсию ты делал?» – не понял его я.
– «Просто, когда мы залезли, мальчишки начали ковырять стены и раскачиваться, а я говорил, что это делать нельзя».
Не знаю насколько это правда, но в Беларуси поговаривают что Польша не жалеет денег для восстановления своих исторических ценностей.
А так как Новогрудок был столицей польского и литовского княжеств, то он получает субсидии на реконструкцию исторических мест и от государства Беларуси и от Польши. Великолепно отреставрированный в Новогрудке «Дом-музей Адама Мицкевича» – «польского Пушкина» оплачен так же Польским государством.
Пробыв пару деньков в Новогрудке, мы рванули на море. Выезжали в Сухуми из Минска, побыв там три дня у Аниного брата Славы. Валя – его жена, гостеприимный человек и мы всегда, будучи в Минске живём у них в квартире. Если одновременно собирались все родственники Белорусы, то квартира напоминала улей.
Ещё в те времена, когда они проживали в однокомнатной квартире, был зафиксирован рекорд плотности гостей: одновременно располагалось на ночёвку 19 человек! Никого это не смущало, было весело и шумно, ибо половина из девятнадцати проживающих были дети.
С наступлением утра, позавтракав, мы, уходили в «поход» по городу, проводя там время до вечера и истаптывая Минск вдоль и поперёк, как мы это делали раньше. Нам нравятся такие прогулки. Этой традиции мы следуем и сейчас при каждом прибытии в Беларусь.
С чувством «присутствия при большом событии» могу сказать, что мне довелось быть зрителем 22-х Олимпийских игр. Проезжая по трассе Москва – Брест, мы пересекали реку Птичь и посмотрели соревнования байдарочников, которые проводились на ней.
Второй раз мне повезло случайно – в Минске я попал на футбол. Я не особо люблю этот вид спорта, но чемпионат мира, а тем более Олимпийские игры – исключение, особенно когда играет команда твоей страны – СССР.
Игры по футболу проводились на стадионе Динамо, мимо которого, гуляя в очередной раз по Минску, мы случайно проходили.

Билет купили удачно, с рук, за полцены (у кого-то чего-то не срасталось) – поэтому я пошёл.
Анна с девочками поехала домой, так как они не смогли бы высидеть матч из-за бешеного гула болельщиков.
ААССР
Абхазская Автономная Советская Социалистическая Республика….
В предыдущих книгах я рассказывал о Абхазии, повторяться не буду, но немного дополню, описав случаи, запомнившиеся в эту поездку.
Ехали, конечно, в отдельном купе (военнослужащим проездные выдавались на всю семью), с едой и хорошим настроением – так в нашей семье было положено.