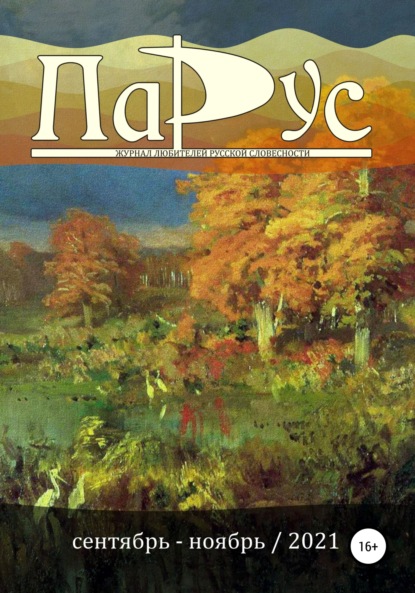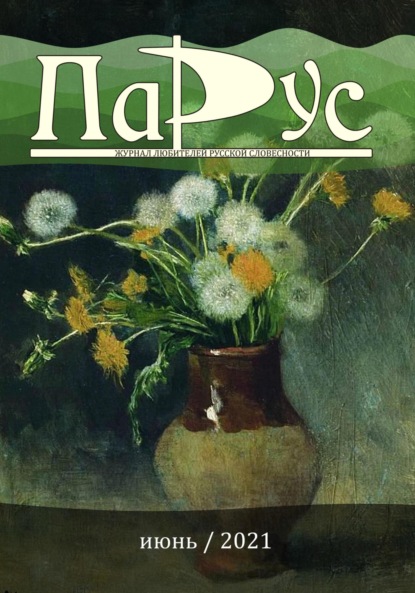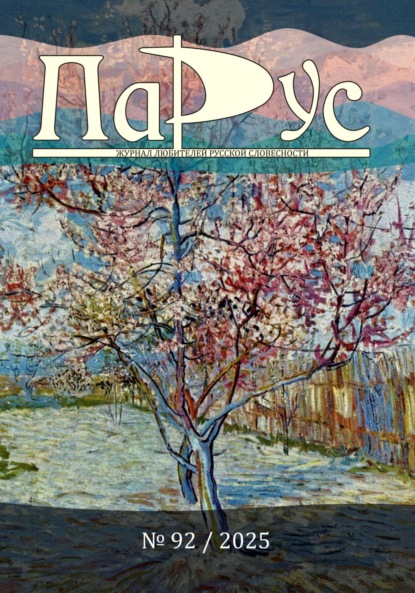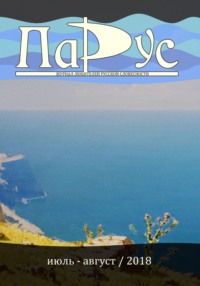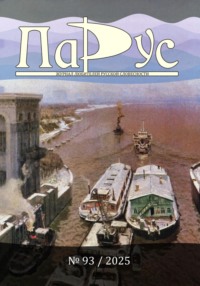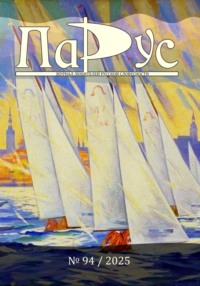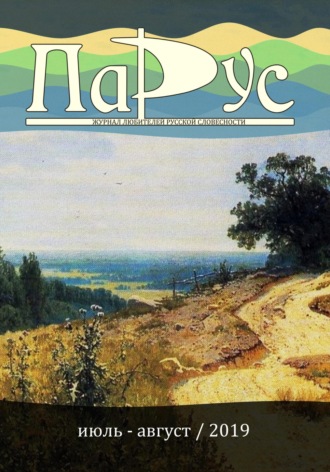
Полная версия
Журнал «Парус» №76, 2019 г.
Мама, Анна Леонтьевна, великая труженица, воспитала троих достойных детей. Мой брат Владимир Тимофеевич Куличенко, полковник КГБ, разведчик, был резидентом в Берлине в горячие 60–70-е годы прошлого столетия, умер рано, в возрасте 55 лет – настоящие разведчики долго не живут. Сестра Куличенко (Бондарь) Екатерина Тимофеевна, скромная труженица, живёт ныне в Нововоронеже у дочери, но её помнят и сегодня в Острогожском райпотребсоюзе.
Себя я помню с момента оккупации г. Острогожска гитлеровцами (немцами, мадьярами, итальянцами и прочей нечестью) в 1942–1943 годах (читай мой рассказ «Война моего детства»).
В 1943 году в послеоккупационном Острогожске меня приняли в первый класс Романовской начальной школы (по улице Прохоренко). Помню, как я шёл в школу в 1-й класс: мама несла стол, а я табурет (это сегодня дети и родители несут цветы, а тогда…). В школах не было никакой мебели, кроме классной доски, поэтому ученики приходили со своими столами и стульями (непременное условие принятия в школу). Тетрадей не хватало, писали на газетах между строк, а вместо чернильниц-неразливаек использовались всякие баночки, поэтому кругом были чернильные пятна. (О шариковых ручках тогда никто и не знал. В школах процветала игра в металлические пёрышки для ручек, они были разных форм – с носиками и без. Помню даже названия некоторых из перьев – «рондо», «скилетик» и т.д.).
С нами, 7–8-летними, учились и более взрослые дети (14–15 лет). Тогда, чтобы поступить в РУ (ремесленное училище), нужно было иметь начальное образование, о чём выдавалось свидетельство об окончании 4-х классов. Учились все увлечённо, с верой в будущее… Сегодня я полностью согласен с мнением моего друга искусствоведа и историка Виктора Листова: «Вадим, ты хорошо знаешь историю и понимаешь, что в истории происходит перманентная, постоянная борьба, и даже война. Но есть особые моменты, один из которых достался нам с тобой (Витя с 1939 г.) – это жестокое детство (война) и печальная старость (рыночная экономика)!» Лучше, на мой взгляд, и не скажешь о «детях войны», к которым я отношу и себя.
В 1946–1947 годах, когда я был в 4-м классе и десятилетний возраст требовал отличного питания, в нашем регионе разразился настоящий голод. Мы по ночам с друзьями одногодками ночевали у магазина на Новом базаре (сегодня это пересечение улиц Пушкина и Ленина), тогда там был один продмагазин (здание барачного типа), где отоваривались карточки на хлеб, которого даже по карточкам на всех не хватало. Это теперь там возник целый квартал. А утром, когда привозили хлеб, сварливые бабы старались нас, пацанов, выбросить из очереди. Толпа во все времена агрессивна к слабым, тем более когда толпа голодная….
Ходили в лес, собирали жёлуди, мололи из них муку, из которой наши мамы, добавляя ещё что-нибудь, пекли фиолетовые лепёшки, из картофельных очисток делали «драники» – одним словом, выживали. И выжили, стали, слава Богу, не последними людьми. Об этих годах мало кто вспоминает. Обычно в памяти остаётся больше хорошее, но иногда не грех вспомнить и плохое. Среди тех, с кем я окончил среднюю школу № 1 г. Острогожска (ОСШ № 1) в 1954 году нет ни одного плохого человека. В этом большая заслуга наших учителей и преподавателей, которые в своих учениках видели будущее страны….
Я со своими друзьями с детства грезил морем, не знаю почему, наверное, под влиянием книги Новикова-Прибоя «Цусима», которая стала первой моей личной книгой, которую я выменял за самые дорогие для меня вещи. Мы, Алексей Попов, Борис Чернышов и я, попытались поступить в среднюю мореходку после 7-го класса. Повезло только Борису Чернышову, который поступил и окончил Ростовское мореходное училище, стал впоследствии капитаном дальнего плавания, притом Ллойдовским (право входа в любой порт мира без лоцмана), плавал на Тихом океане. Мне было отказано в поступлении «по малолетству», ко времени поступления не исполнилось 15 лет. Пришлось работать и учиться дальше, на чём настоял директор школы Алексей Дмитриевич Халимонов. У нас в семье было трое детей, отец и мама выбивались из сил, государство тогда не помогало, но люди рожали детей и воспитывали, и все старались, чтобы дети учились. Нам с братом приходилось ухаживать и за малой сестрой. Справлялись и не жаловались.
В школе мне трудно давался русский язык, по слогу все сочинения шли на отлично, а вот ошибки… Незабвенная Татьяна Ивановна Скворцова, зная мою заветную мечту, часто говорила: «Вадим, не станешь ты адмиралом, пока не научишься писать без ошибок!». Я старался, адмиралом не стал, но кое-чего достиг в морском деле и публицистике. К слову, в нашем крае, который когда-то относился к Новослободской Украине, смешанный язык – «Лез-лез по дробине, а упал с лестницы!». Наверное, отсюда и такое произношение и, конечно, правописание.
В школе я был активным общественником и мне Военкомат выделил комсомольскую путёвку в Высшее военно-морское училище им. С.М. Кирова в Баку. Но судьба распорядилась иначе. По рекомендации нашего зятя капитана 1 ранга Прокофьева Михаила Ефимовича, который был мужем моей тёти Екатерины Афанасьевны, сестры моего отца, мы с бабушкой поехали в Ленинград, где дядя проходил службу. Меня определили в свободную ленинградскую группу кандидатов в курсанты, где я и стал сдавать вступительные экзамены в Высшее военно-морское училище подводного плавания. Это было тогда секретным учреждением и именовалось Первым Балтийским училищем, или войсковая часть № 62651. Из 25 баллов я набрал 23 и был зачислен в училище. Что удивительно, сочинение на тему «Великие русские флотоводцы» я написал без единой ошибки. Потерял по одному баллу на физике и химии. Из двух факультетов – штурманского и минно-торпедного – выбрал последний. Контингент нашего потока курсантов был в основном рабоче-крестьянский, из малых городов и деревень. Парни были все патриоты и стремились к знаниям. Когда нас впервые повели на экскурсию на подводную лодку «Лимбит», стоящую на Неве, мы ужаснулись. Но как говорил мой брат: «Вадька, человек – такое животное, ко всему привыкает». И это так. Многие из моих сокурсников стали командирами подводных лодок, командирами соединений и героями Советского Союза. Главное, всегда нужно быть уверенным в себе!
Окончил училище в 1958 году, получил звание лейтенанта и был направлен для прохождения службы на Северный флот, на котором и прослужил полных 22 календарных года. Ещё в училище вступил в ряды КПСС, в которой состоял до её распада, потом ни в какие партии не вступал. Я давно понял, что дело не в партиях, а в лихих людях, которые ищут выгоду только для себя. Нужно только, чтобы в стране было больше порядочных людей, и она начнёт расцветать.
В октябре 1958 года я начал офицерскую службу на Северном флоте с начальной должности – командир торпедной группы средней подводной лодки «С-344» проекта 613. Лодки этого проекта в нашем послевоенном подводном флоте стали тем, чем во время войны был средний танк «Т-34», легендарная тридцатьчетвёрка для танковых войск. Фактически 613 проект стал основой, из которой вырос весь наш послевоенный подводный флот, в том числе и атомный.
В 1962 году был назначен командиром БЧ-3 (минно-торпедная боевая часть) на крейсерскую (большую) ракетную, но дизельную, подводную лодку «К-72» 629 проекта, с которой в 1965 году ушёл на строившуюся атомную ракетную лодку с крылатыми ракетами (ПЛАРК) «К-131» помощником командира. В декабре 1965 года лодка пришла с завода на Северный флот и вступила в его боевой состав. На ней я прослужил до 1970 года, став в 1969 году на короткое время её командиром. На «К-131» я совершил несколько боевых служб («автономок»), пережил столкновение в подводном положении в Баренцевом море, участвовал в арабо-израильской войне 1967 года, находясь в Средиземном море. За что и считаюсь ветераном боевых действий.
После учений «Океан-70» командование флотилии подводных лодок обнаружило у меня «штабной талант», и мне предложили службу в штабе Северного флота. Многие военачальники прошлого считали штабы мозгом армии и флотов. И это истина.
В конце 1970 года, после 12 лет службы на подводных лодках, дизельных и атомных, я перешёл на штабную работу.
В штабе Северного флота, где я прослужил до 1980 года в оперативном управлении, моя служба была связана с подводными лодками. Мне приходилось заниматься планированием боевой службы для подводных лодок. В этот период я закончил и академические курсы по управленческому направлению.
Флот рос и развивался. Возникали новые управленческие структуры. Для них нужны были кадры. И в 1980 году меня пригласили в Москву, в Главный штаб ВМФ, на должность старшего офицера-оператора Воздушного командного пункта ВМФ (ВЗПу), который входил в систему Центрального командного пункта ВМФ. Там я пролетал на самолётах воздушного командного пункта до 1987 года, откуда в звании капитана 1 ранга ушёл в запас в возрасте 50 лет, с выслугой 52 года (календарная выслуга 32,5 года).
В период службы в Главном штабе ВМФ бывали различные случаи. Приходилось часто вылетать на флоты с главнокомандующими ВМФ, как то: адмиралом флота Советского Союза Сергеем Георгиевичем Горшковым и адмиралом флота Владимиром Николаевичем Чернавиным, последний даже не хотел меня отпускать, собираясь продлить мне службу ещё на пять лет, но я отказался. Любая военная служба не сахар – свобода стеснена, приказы – распорядки – командировки, и всё бегом-бегом. Хотелось заняться чем-то по своему усмотрению.
Относительно наград хочу сказать, что, к сожалению, а возможно, к счастью, орденов нет. А медали все юбилейные, за исключением трёх – за выслугу лет. Мне как-то уже в Главном штабе один из начальников, прослуживший в штабах с лейтенантов, сказал: «Что ж ты, Вадим Тимофеевич, говоришь, в “автономки” ходил, Израиль воевал, а орденов не имеешь. Я вот уже третий получаю». Это было сказано в присутствии офицеров. На что я ответил: «Как будто вы не знаете, что на фронте орденов не дают!». Раздался громкий хохот и смутившийся начальник покинул помещение.
Уйдя в запас в 1987 году, я продолжал работать и заниматься любимым делом. Просиживал в библиотеках, накапливал материал и писал статьи. Конкретно меня интересовало не писательство, а публицистика. Веду своё исчисление в этом деле с 1989 года, когда в «Подмосковной неделе» появилась первая моя большая серьёзная статья. По скромным подсчётам на сегодня имею более 1 200 публикаций различного объёма и характера, в основном на морские темы. Сегодня с полным правом подписываюсь «публицист».
Раз пять участвовал в различных журналистских и литературных конкурсах, в основном на военно-патриотические темы, становился лауреатом этих конкурсов. В 2002 году стал лауреатом Международного конкурса славянских журналистов «России верные сыны».
В 2010 году к 50-летию Центрального командного пункта ВМФ вышла моя книга «50 лет ЦКП ВМФ». За книгу меня наградили грамотой Татарстана.
В 2016 году стал дипломантом Всероссийского литературного конкурса «Щит и меч Отечества».
На сегодняшний день (идёт 83-й год моей жизни) я официально не работаю, но пишу…
За всю свою жизнь я не пропустил ни одного года, чтобы не побывать на своей малой Родине, городе Острогожске, где мои корни… Конечно, город меняется, к сожалению, не всегда в лучшую сторону.
Относительно того, что все мои родные имеют фамилию Куличенко, а я Кулинченко. При оформлении свидетельства о рождении так записали, и это обнаружили, когда оформляли брата в КГБ – разнобой в паспортах мамы и отца. Всех привели к одному знаменателю. Я был уже капитан-лейтенантом, уже было пухлое личное дело и его не стали менять…. Но я не обижаюсь, я знаю свои корни.
Война реальная и бумажная
Я и раньше знал о войне не понаслышке, но, пожалуй, впервые 1 августа 2003 года по «Радио России» прозвучало правдивое признание о войне героя Советского Союза Георгия Тимофеевича Добрунова. Оно касалось одного из эпизодов Великой Отечественной – Курской битвы.
Единого мнения относительно того, кто победил в том жестоком танковом сражении, нет и по сей день. Надо признать одно: счастье, удача, Бог – назовите, как хотите – были тогда на стороне советских войск. И, как сказал Георгий Тимофеевич, «мы там драпали, и немцы растерялись». Но, отмечает герой, и я с его мнением полностью согласен, мы выиграли ту жестокую войну за счёт патриотизма нашего народа и солдата, солидарности всех народов Союза. Вопреки мнению Суворова побеждали не умением, зачастую числом, и уже во вторую очередь, если можно так выразиться, талантом наших полководцев, которые учились военному искусству уже в процессе самой войны.
Сейчас уже не секрет, что после победы развернулась война бумажная, вернее сказать, мемуарная. Авторы мемуаров всегда старались показать себя в лучшем свете, чем «товарища» в сером. Не избежал этого и «полководец всех времён», которого ныне некоторые авторы пытаются превратить чуть ли не в единственную личность, выигравшую Вторую мировую войну, забывая, сколько наших солдат полегло хотя бы на тех Зееловских высотах при взятии Берлина. А оправданы ли эти жертвы с точки зрения интересов народа? К слову, Зееловские высоты – тёмное пятно в нашей военной истории. Но в своих мемуарах Г.К. Жуков выглядит «бойцом без страха и упрёка». Недаром адмирал и писатель Иван Степанович Исаков (1894–1967), активный участник Великой Отечественной войны, на просьбы написать мемуары всегда отвечал отказом, ссылаясь на вышеприведённую мною их необъективность.
На мой взгляд, а я сам участник боевых действий, война, в её настоящем виде, объективна только в реальном масштабе времени. А потом это уже домыслы авторов, которые никогда сами не воевали и даже «не видели трапа на корабль», фантазии, подтасовки во имя идеологии и прочие немыслимые флюиды, которые и перечислить-то трудно из-за их многочисленности. Самое ценное во всех этих материалах, пожалуй, одно – оценка событий с точки зрения настоящего, а не реального времени, и здесь вывод неизменен: «победителей не судят!», а побеждённых можно и забыть.
В настоящее время военные мемуары стали «не в почёте», их заменили мемуары политиков, которые продолжают этот жанр в том же духе – «я хороший, а мой партийный собрат – дурак!». Но мы их не будем касаться сейчас, у нас тема военная, однако многие политики претендуют на генеральские погоны, тем более на оценку тех или иных военных событий. Послушать Жириновского, например, о военных событиях в Ираке или Донбассе, так ему непременно надо дать чин маршала, не меньше. Но увы! Ведь недаром бытует такое выражение – «Всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны», тем более когда и участников тех боёв уже не осталось в живых и некому на неправду возразить. И великие пророчества политиков и полководцев на настоящей войне зачастую обворачиваются фактом – «на войне, как на войне!».
Война как она есть
Читая сегодня книги о войне, с высоты своего опыта и возраста приходится вольно или невольно задумываться: прав или не прав автор в своих суждениях, нюхал ли он сам «порох» или ему всё кто-то рассказывал, можно ему верить или нет, об этом чуть ниже. К сожалению, в большинстве случаев вся бумажная война сводится к одному: «Бой в Крыму – всё в дыму!..»
А между тем настоящую книгу о войне легко отличить от суррогата – человек, автор, который сам пережил войну, или хотя бы настоящий бой, больше апеллирует к чувствам, чем к цифрам. Чувства трудно передать на бумаге, но все же они незримо присутствуют в каждом рассказе, репортаже, исследовании о войне, если только пишутся не по заказу, а от души.
В своё время мы зачитывались книгами, именно книгами, а не мемуарами, таких писателей-фронтовиков, как Константин Воробьёв, Виктор Астафьев, Анатолий Ананьев, Виктор Некрасов, и других, которые показывают страдания человека на войне не только физические, но и нравственные. Не в тылах, штабах и политотделах, а на передовой, где стреляют и убивают, где смерть рядом, а не где-то далеко. Испытывая адские страхи и страдания, люди переднего края сражаются до последней капли крови, до последней жилки и нерва, до последнего вздоха, чтобы одолеть врага чего бы этого ни стоило: увечья, гибели или мучительной смерти в плену.
Но почему-то эти книги не переиздают, предпочитая им мемуары асов Третьего Рейха. Загадка? Нет, расчёт! Это я могу отличить чёрное от белого, а нынешний ребёнок – нет.
Вот я, шестилетний пацан, и мой трёхлетний братишка (г. Острогожск Воронежская обл., январь 1943 г.), держась за руку и подол своей мамы, пытаемся перебраться из своего разрушенного погреба через улицу к соседям. В это время на улице с ревом появляется фашистский танк, грозно ворочая орудием. Я успеваю с матерью проскочить перед ним на другую сторону улицы (ширина улицы в небольшом городе 20–25 метров), а плачущий брат остаётся на другой. Неосмысленный страх, но танк проносится мимо…. Ужас приходит позже, через многие годы, когда я уже сам военный и мыслю военными категориями – танкисту ничего не стоило нажать на гашетку пулемёта или дернуть рычаг управления – и нас нет. Но он был занят более важной задачей – как вырваться из окружения. Завершалась Острогожско-Россошанская операция 13–27 января 1943 года. Сегодня о ней мало кто вспоминает – рядовой случай войны мало привлекает писателей.
Потом, уже в возрасте 31 года, я пережил участие в арабо-израильской войне 1967 года, будучи старшим помощником командира АПЛ «К-131», которая готовилась нанести ракетный удар по Тель-Авиву из глубин Средиземного моря. Этот случай описан американскими авторами Шерри Зонтагом и Кристофером Дрю в книге «История подводного шпионажа против СССР» («Издательская группа АСТ», 2001), где они в главе «Гонка в Средиземном море» пытаются передать мои чувства в тот момент, когда мы получили подобный приказ. Ничего эти описания общего с нашими реальными тогдашними чувствами не имеют….
Книжная война
И всё-таки, как критически ни относиться к книгам о войне: мемуарам, исследованиям, беллетристике, детективам и прочей литературе – они, несомненно, нужны и даже необходимы. Они своего рода двигатель не только военного прогресса, но и большая пища для здравомыслящего ума.
Вместе с тем к этой литературе приходится относиться более осмысленно, чем к любовным романам. Хочу вернуться немного назад и обратиться к своему высказыванию – стоит или нет доверять тому или иному автору, пишущему на военную тему, тем более сегодня, когда появляется масса книг о тех событиях, которые мы знали только с одной стороны. Я приветствую появление таких книг, как, например, входящие в серию «Россия забытая и неизвестная» (Белое движение) издательства «Центрполиграф», книги этого же издательства о подводной войне 1939–1945 годов, близкой мне теме. «Никогда нельзя забывать о неподдающемся расчётам человеческом факторе – о неустрашимых военных и гражданских моряках, невоспетых героях…».
И в этих положительных книгах есть издержки, вернее, отсутствие объективности, если свой – то герой, если чужой – то изверг.
Но вернёмся к вопросу доверия к автору. Недавно мне попались книги, как гласит издательская ремарка, «широко известного автора» Игоря Бунича: «Князь Суворов» и «Корсары кайзера», изданные под рубрикой «Секретные материалы» в Санкт-Петербурге издательским домом «Нева» (2003). Честно признаюсь, что эти книги не вызвали у меня особого интереса и доверия по той причине, что автор, особый любитель «секретных материалов», ещё в 1994 году в санкт-петербургских «Аргументах и фактах» выдвинул кощунственную, необоснованную версию гибели линкора «Новороссийск» (29.10.1955) – «Новороссийск» был взорван якобы по приказу Георгия Жукова.
По моему мнению – и не только моему, а многих моих товарищей, профессиональных военных моряков, – версия Бунича была рассчитана на людей несведущих. Он, по какой-то непонятной причине, пылая ненавистью к нашему флоту и вообще к Вооружённым Силам, возможно, отдавая дань моде, пытался убедить читателей: солдаты и матросы наши вроде неплохие, а вот их командиры в неприязни друг к другу готовы пойти даже на то, чтобы жертвовать сотнями людей в своих узколичных интересах! Одна цитата из версии Бунича: «Ещё в военную бытность свою Георгий Жуков ненавидел флот – буквально (от себя добавлю, и правильно делал. Ибо, как известно, с момента изобретения брони, паровой машины и нарезной пушки флот не приносил России ничего, кроме военного позора и траты денег. Вся история российского флотоводства в 20 веке о том свидетельствует неоспоримо. А уж история советского ВМФ периода второй мировой войны – это вообще один сплошной мартиролог)». Что на это можно ответить подполковнику военно-морской авиации советского ВМФ, «маститому» писателю? Хочется просто сказать ему: изучайте историю флота внимательно и не доверяйте сомнительным авторитетам, как я вправе после вышеприведённого не доверять вам и вашей книге «Князь Суворов», исторической хронике флагманского корабля 2-й Тихоокеанской эскадры под началом адмирала Рожественского. Не может автор, с презрением относящийся к отечественному флоту, объективно писать о нём.
Пусть извинит меня читатель, что я вспомнил книги 25-летней давности, просто я их перечитывал. Но за эти годы издательская идеология мало в чём изменилась. Мы вроде заимели свою гордость, а всё же допускаем фальшь.
Но в любом случае и такие книги о войне нужны. Они заставляют думающих читателей анализировать, сопоставлять и делать свои выводы. Перефразируя одно известное стихотворение, можно сказать по этой теме: «Книги разные нужны, книги всякие важны!».
10 июля 2019 г.
***
У каждого человека есть своё собственное мнение о войне, и мой покойный отец, раненный в голову пулей навылет под Ленинградом в 1941 году, всю оставшуюся жизнь повторял: «Кому война, а кому мать родна». Сейчас больше славят ветеранов, которые брали Берлин, но забывают тех, кто закладывал фундамент этой Победы, прикрыв страну в июне-июле 1941 года.
Недавно в поезде дальнего следования я услышал хорошую байку от ветерана тех далёких лет, очень похожую на нашу действительность:
– Сидят два ветерана, выпили по 100 грамм, которыми сегодня модно откупаться от ещё оставшихся в живых ветеранов, и вспоминают. Один говорит: «Чего мы только не пережили: голодали в Ленинграде, замерзали во льду Ладоги!». А второй ему: «Я что-то этого не помню. Мы как попёрли фрица – Томск, Омск, Челябинск, Уфа…». Первый ему: «Подожди, ты хотя карту знаешь?» – «Какую карту? Карту мы оставили справа – и прямо на Берлин!».
Один из этих ветеранов начал войну с июня 1941 года, второй только с 1944 года, отсюда у них и разное восприятие той страшной войны.
Да к тому же война видится по-разному из штабного верха и фронтового окопа, а также после штыковой атаки, если остался жив…
Отсюда и различные комментарии о войне настоящей и войне бумажной.
София культуры
Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ
.
Введение в философию Православия
(Очерки о Любви, Любви к Свободе и Истине)
Вера
«Посему будем опасаться, чтобы, когда ещё остаётся обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворённое верой слышавших. А входим в покой мы уверовавшие… Итак, некоторым остаётся войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то ещё определяется некоторый день…» (Евр. 4: 1–7). Эти слова апостола Павла предельно ясно раскрывают характер отношений между знанием и верой. Говорится и о времени, как о возможности использования знания. Нам прямо указывается на то, что получаемые сведения, информация – ничто, пока не поверим им, ибо только вера позволяет знания обратить себе во благо.
Об этом же свидетельствуют учёные; например, академик почти всех известных академий мира Анри Пуанкаре говорит: «Только для поверхностного наблюдателя научная истина не составляет никаких сомнений». И действительно, вера в знания, полученные человеком в результате научного поиска истины, способна прекратить этот поиск, когда не оставляет ему возможности двигаться дальше по пути познания мироздания. Это вера и отличает настоящего исследователя тайн бытия от «поверхностного наблюдателя», который ни на шаг не желает отступать от того, во что уверовал. А уверовать он может только в то, что имеет относительную ценность, но путь познания мира беспределен. Об этом говорят деятели науки, не лишённые мудрости.
Но и людям религиозным нельзя отказываться от получения знания. Митрополит Московский Филарет говорит по этому поводу следующее: «Никому не позволительно в христианстве быть вовсе неучёным и оставаться невеждой. Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в христианстве, то ты не ученик и не последователь Христа». И чтобы снять вопрос о противоречии между наукой (знанием) и верой, приведём слова М. Ломоносова: «Наука и вера суть дщери Великого Родителя и в распрю зайти не могут». И правильно: войны и распрю затевают между собой не носители знания и веры, а люди, преследующие корыстные интересы, т. е. те, кого нельзя отнести ни к первым, ни ко вторым. Кроме этого, вера всегда основывается на знании, а знание на вере. Ведь вера в Творца есть знание сердца, которое не всегда можно перевести на язык разума. Разум как раз и занимается обоснованием того, что чувствует сердце, сохраняющее в себе единство человека и творения, и он стремится, если стремится на самом деле, только к познанию Первопричины жизни, бытия.