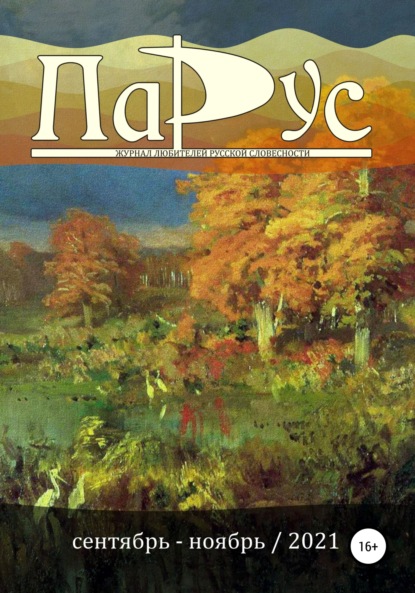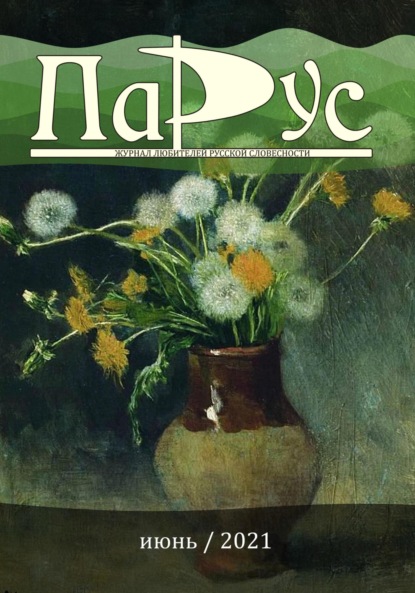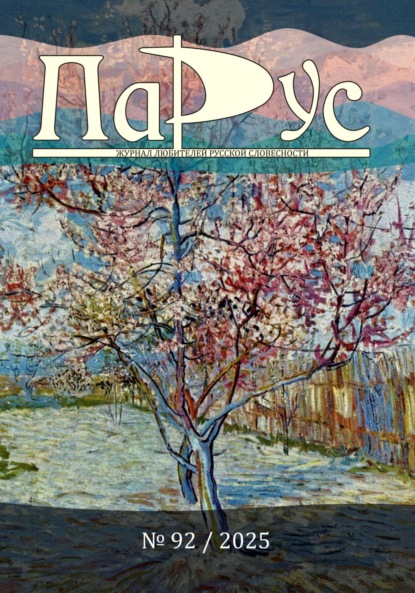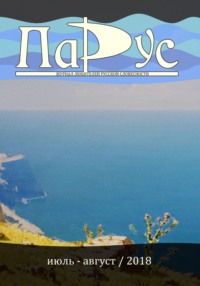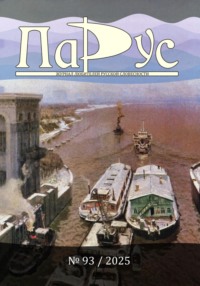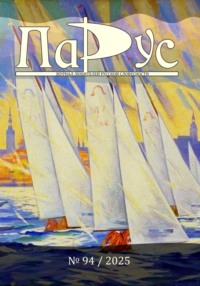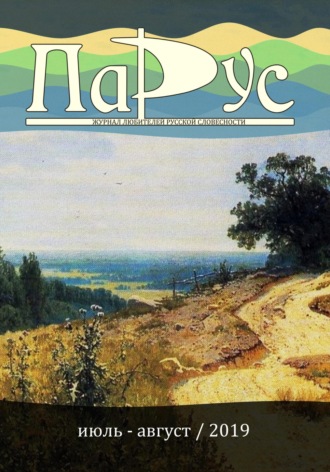
Полная версия
Журнал «Парус» №76, 2019 г.
Георгий КОЛЬЦОВ (1945–1985). Неделимое наследство
***
С отвоёванного детства,
Пережитого сполна,
Мне досталася в наследство
Только Родина одна,
С речкой,
С лугом,
С голосами
Птиц, поющих надо мной,
С городами и лесами,
Опалёнными войной.
Жизнь свою по воле сердца
Прожигая на бегу,
Неделимое наследство
От пожарищ берегу.
И одна забота только:
Всё наследие моё
Передать своим потомкам,
Уходя в небытиё,
С речкой,
С лугом,
С голосами
Птиц, поющих в вышине.
С городами и лесами,
С добрым словом обо мне.
***
Потому ль,
Что был нетерпеливый,
Я мальчишкою лет десяти
Босиком выскакивал под ливень.
Побыстрей хотелось подрасти!
И не мог не видеть,
Подрастая,
Как, вспорхнув из теплого гнезда,
Осенью не только птичья стая
Покидала отчие места.
С вещмешком пустым,
В стежонке ватной,
Но при шляпе модной, как пижон,
По повестке из военкомата
Сам я тоже из дому ушёл.
Мать ли мне сказала на пароме
Иль шепнула синяя река:
– В добрый путь!
Но где бы ни был – помни,
Из какого вышел уголка!
Что бы —
За речным тем поворотом —
В моей жизни не случилось впредь,
Ангара,
Твоим пречистым водам
Не придётся за меня краснеть!
МАНЬЧЖУРИЯ
И сквозь века
Я слышу гик погони
И вижу пепелища городов…
Пасутся неосёдланные кони
В низинах сопок,
Словно у шатров.
А степь вокруг,
Как выжженная крепость,
Пылится под набегами ветров…
Солёные озёра в местный эпос
Входили очертанием подков.
На поле брани вдовы голосили.
Тот стон был слышен рядом и вдали.
И не было беды невыносимей
С момента сотворения Земли.
Красивых русокосых полонянок
Монголы гнали с гиканьем в Орду.
Неся беду другим в тугих колчанах,
На свой же род
Накликали беду.
И чёрная Орда, не золотая,
Ещё представить даже не могла,
Что, как бы высоко ни залетала,
Всегда на землю падает стрела.
И, описав дугу,
Стрела находит,
Выходит так,
Не только лишь врага…
Коню – нести кочевника в походе,
А жёнам – тосковать у очага.
Слезились очи молодых монголок.
Что – юрты без детей?
Они пусты!
И с той поры на склонах сопок голых
От слёз их вдовьих
Зацвели цветы.
СИБИРЬ
Я с берега слежу
За птичьей стаей…
И с каждым днём становится родней
Река с отливом плавящейся стали,
Когда зажгутся бакены на ней.
Я уходил отсюда за рассветом,
Но знал:
Куда б меня ни занесло,
Я в эту землю врос,
Как корни кедра,
Невидимо,
Упрямо,
Тяжело.
ПРИЧАЛ
Показался за мысом
Дощатый причал.
– Здравствуй! – крикнуть хотелось,
Но я промолчал.
Переплавишь ли чувства
В скупые слова?
И к лицу ли, как в детстве,
Кричать в тридцать два?
Рябь студёной волны.
И по коже – мороз!
В горле вдруг запершит
От непрошенных слёз.
Ветер, славя простор,
Над рекою крепчал…
От тебя расходились дороги,
Причал!
И скрипел твой настил,
Как солдатский ремень.
Ты всегда по-мужски
Чувства прятать умел.
Провожая людей,
Крепче в берег врастал.
Так не каждый из нас
Верен отчим местам.
Ты распутывал здесь
Узел встреч и разлук…
Вот и дым над избой,
Как спасательный круг.
***
Созвездьями тьма разрублена
На мелкие
На куски.
Таинственно,
Как у Врубеля,
Ложится луна в пески.
И Ангара под звёздами
Багровой кажется мне.
И слышно,
Как кто-то вёслами
Стреляет по тишине.
Художественное слово: проза
Наталья КРАВЦОВА. Пятнадцать копеек
Рассказ
С тех пор, как случилась история, о которой я хочу рассказать, изменилась страна, изменилась жизнь. Сегодня трудно представить, как в годы нашей юности мы обходились без компьютеров и интернета, без мобильных телефонов, банковских карт и электронных документов. А так вот и обходились: жили себе и жили. Как и сегодняшние старшеклассники, мечтали о свободе и воле, стремились поскорее вырваться из-под родительского крыла. Попадали, случалось, в глупейшие ситуации, – всё из-за той же юношеской безалаберности и беззаботности, – когда не хватало рублей и копеек на самое необходимое, а родственники и друзья были далеко и даже не подозревали, что нам нужна помощь. А мы полагались на авось да на добрых людей, которые не дадут пропасть понапрасну.
И не зря, кажется, полагались. В золотые 80-е, названные позже «годами застоя», всё было не так, как сейчас: жизнь – проще, люди – отзывчивее. Я училась в техникуме, а потом в институте, набиралась не только знаний, но и житейской мудрости. А затем, затем… Всё, чему не доучили нас благополучные 80-е, с лихвой наверстали 90-е. Научили выживать, быть бережливее и экономнее, думать о хлебе насущном и завтрашнем дне, заставили повзрослеть и поумнеть.
В свои семнадцать я считала себя вполне взрослой и самостоятельной. Была студенткой-отличницей Бузулукского финансового техникума, без пяти минут дипломированным ревизором государственных доходов, готовилась к продолжению учебы в столичном вузе. До госэкзаменов и защиты диплома мне в ту пору оставалось всего ничего: производственная практика в районном финансовом отделе Новосергиевки, составление отчета об этой самой практике и написание дипломной работы.
Жила я тогда с однокурсницей Любой в Новосергиевке, но каждую пятницу после работы садилась в пригородный поезд и ехала в Бузулук: нужно было встретиться с преподавателями, посидеть в библиотеке, осилить очередную главу диплома и подобрать материал для следующей. А по воскресеньям возвращалась на том же поезде обратно к месту практики.
Ехать недалеко, всего-то четыре часа. Каждая поездка обычно заканчивалась благополучно: я высаживалась на железнодорожной станции и бежала к автобусу, поджидавшему пассажиров на дальней стоянке за переездом. Пять копеек водителю ПАЗика за проезд, выбрать местечко поближе к печке, ненадолго закрыть глаза, помечтать… и вот уже она, моя заветная конечная остановка! Вот улица, превратившаяся по весне в аквариум. Вот соседи нашей квартирной хозяйки, бабы Симы, с каждым из которых нужно приветливо раскланяться, чтобы они потом не выговаривали бабушке: мол, пригрела у себя городских гордячек – и не нарадуется…
– Да какие оне городскии? – заступится Серафима. – Селяночки оне. В городе токмо учатся. А какие ласкаваи, вежливаи. И веселаи. Хорошаи оне!
Надо ли говорить, что жили мы с бабушкой Симой душа в душу: чаевничали вечерами у горячей печи, длинные беседы вели, зиму провожали, весны дожидались – солнышка, тепла, снеготаянья, первого весеннего грома. Наконец, наступил апрель…
***
Чем начинается и заканчивается апрель, известно каждому: начинается капелью, а заканчивается субботником. Под лаской теплых солнечных лучей сползает с земли снежное одеяло, оголяет ее – и сразу хозяйский глаз подмечает: пришла пора прибраться, пока земелька не высохла, пока не полезла из нее первая зеленая травушка. Лопата, грабли и веник уже стоят наготове и ждут своего часа. Давайте, студентки, и вы тоже принимайтесь за дело!
Практикант – это, конечно, не штатный работник, а посему вполне может и уклониться от трудовой повинности, именуемой субботником. Но это не про меня. Воспользоваться случаем и уехать домой пораньше, не поучаствовать в весенней уборке территории вместе с коллегами, с которыми подружилась за зиму, – я бы не смогла.
Солнышко пригревало, работа кипела. Время летело незаметно. Весельчак-сторож, опершись на лопату, рассказывал анекдоты. Мужчины перешучивались, кучковались в предвкушении «пикника» – неизменного спутника весенней генеральной уборки. Девчата еще добеливали худенькие деревца, посаженные пару субботников назад, подметали дорожки у парадного входа, а кадровик уже завел разговор на тему «а не скинуться ли нам по рублю и не отметить ли героический труд на благо Родины». Шеф согласно кивнул, а его секретарша охотно вызвалась слетать в магазин:
– А вы тут пока заканчивайте!
Я взглянула на часы: время поджимало, до поезда оставался ровно час. В кармане моей куртки лежал один-единственный рублик, отложенный на дорогу. Завтра утром, в субботу, мне нужно было обязательно сходить в техникум, получить стипендию (ее давали раз в месяц). Я распрощалась с коллегами и поспешила на квартиру, за сумкой.
Шла по дороге пешком, автобуса не было. В душе моей теплилась надежда, что водитель притормозит и подберет меня по пути. Ведь каждое утро ПАЗик отвозил нас на работу, шофер знал в лицо всех своих пассажиров. Так и случилось. Села в автобус, разменяла свой рубль, доехала до конечной. Уговорила водителя подождать меня несколько минут – и вихрем помчалась вниз по улице, благо, что была в спортивном костюме и кроссовках.
Заскочила в дом, напугав бабу Симу. Она жарила пирожки – здоровенные, с мужскую ладонь. На плите призывно пел чайник, но времени попить чайку с хозяйкиным угощением не было. Даже переодеться не успевала. Схватила сумку, побежала, вернулась в дом за студенческим билетом, на ходу обняла бабулю – и полетела к автобусу. Успела!
За пятнадцать минут до отправления поезда я уже стояла у железнодорожного переезда. Шлагбаум был опущен, а мимо меня неторопливо шел товарный состав. Он, как обычно, следовал без остановки, сбавляя скорость перед железнодорожной станцией. А по второму пути шел встречный.
Минуты ожидания казались бесконечными, но не лезть же, сломя голову, под товарняк! Наконец, стрелка шлагбаума медленно поползла вверх, дорога была открыта. Прибежав на платформу, я увидела хвост отбывающего пассажирского поезда. Стоянка была короткой: всего три минутки. И я на него опоздала. Хорошо хоть билет заранее не купила…
Слегка расстроившись, зашла в здание вокзала. Протянула свой студенческий, дававший право на проезд за половину стоимости, и попросила у кассирши билет на следующий поезд. До его отправления было минут сорок, ждать оставалось совсем недолго.
– С вас один рубль, – сказала кассирша, оформляя билет. Сердце мое гулко застучало, последний рубль был уже разменян.
Я дважды пересчитала мелочь, раскладывая монеты на ладони. Пошарила по карманам куртки, заглянула в сумочку и в сумку с вещами. Привычным движением запустила руки в карманы джинсов, где всегда звенела сдача. Но карманов не оказалось, и тут я вспомнила, что не успела переодеться в дорогу. Набралось сорок пять копеек, которых как раз хватило бы на билет в только что ушедшем поезде.
– А почему рубль? Всегда проезд стоил сорок пять копеек! Я езжу не первый месяц…
– Поезд фирменный, потому и дороже. Билет оплачивать будете? – голос из окошечка кассы требовал немедленного ответа.
– Мне не хватает пятнадцать копеек… Тетенька, пожалуйста, дайте мне билет, я довезу вам эти копейки в воскресенье или в понедельник, когда у вас следующая смена. Не успею сейчас доехать ни до работы, ни до дома, чтобы взять деньги, а мне обязательно надо уехать. У вас мой студенческий билет, запишите фамилию. Я донесу вам деньги, обязательно донесу… – упрашивала я.
– Следующий! – гаркнула кассирша.
– А какой следующий? – спросила я упавшим голосом, не понимая, что кассир уже разговаривает не со мной.
– Алма-Атинский. В двенадцать ночи. Но у тебя денег не хватит. Ходят тут, льготнички… – прозвучало из окошечка.
Я взяла свой студенческий и медленно побрела к выходу. Мысль о том, что можно купить билет, докуда хватит денег, а затем проехать чуть дальше, до нужной станции, – не выгонит же проводник поздним вечером студентку из вагона, – как-то не пришла в мою голову. Я брела и думала о том, что ночным поездом ехать нельзя, что в техникум утром не попаду, стипендию не получу и останусь с пустыми карманами еще на неделю.
Присела на скамью, на всякий случай вновь перепроверила сумки, вещи, карманы, кармашки. Напрасный труд… Всего лишь час назад я беззаботно улыбалась на субботнике, а теперь ругала себя за эту беззаботность и не знала, что делать.
И тут, словно ниоткуда, появился какой-то мужчина. Наверное, тоже стоял в очереди за билетами, видел, как я уходила, понурив голову. Подошел неожиданно, протянул свою ладонь с копейками:
– Ну, сколько тебе не хватает? Возьми!
Поймал мой недоверчивый взгляд, улыбнулся:
– Да бери же…
Господи, как неловко я чувствовала себя в ту минуту! Принять помощь незнакомца…
– Пятнадцать копеек… – прошептала я. – А как же я вас найду, как верну? Вы же тоже уезжаете… Адрес скажите, я принесу. Честное слово, принесу!
– Не стоит беспокоиться и искать меня, – ответил он. – В крайнем случае когда-нибудь выручишь кого-то другого.
Голос мой опять куда-то пропал, я прошептала:
– Спасибо вам…
И поспешила в кассу. Высыпала монетки перед рассерженной кассиршей, купила билет. Села в поезд.
В купе ни о чем не могла думать, кроме как о том, что со мною недавно случилось. Мне было плохо, было стыдно. Так стыдно, как будто только что пришлось стоять на паперти с протянутой рукой и просить подаяния. Слезы стояли в моих глазах, готовые пролиться в любую минуту. И тут в купе заглянула проводница, предложила чай. Я всё и выложила ей, как на духу…
– Молодец мужик! Мир не без добрых людей! Ишь, нашла из-за чего страдать, – успокаивала меня пожилая женщина. – Да что я – чая тебе не дам, что ли? Не всё в мире деньгами меряется!
Она налила в стакан заварку из пузатого чайника, сыпнула сахара, подлила кипятка. Разносят ли сейчас в поездах такой вкусный чай в металлических узорных подстаканниках с дребезжащими чайными ложечками? Наверное, нет.
Я снова проверяла свои карманы и сумки, искала какую-нибудь конфетку. Вдруг поняла, что голодна… И тут – о чудо! – в боковом кармане сумки обнаружился привет от бабы Симы – пирожок, который квартирная хозяйка заботливо завернула мне на дорожку. Большой и вкусный. Слезы закапали сами собою…
Поздним вечером с вокзала я добиралась почти бегом. Темнело, а денег на автобус у меня не было ни копеечки.
***
Утром в субботу, получив стипендию, аж тридцать четыре рубля пятьдесят копеек, я почувствовала себя богачкой. Страх безденежья отступил, на душе стало легко.
Возвращалась из техникума через вокзал. Купила в кулинарии булку с повидлом, занесла с собой в автобус ароматный запах свежей сдобы. Водитель уже закрывал дверь, но в последний момент перед отправлением в салон влетели дети: девчушка лет трех-четырех и ее брат, года на три постарше. Одеты они были странновато для апреля – теплые куртки, изношенные тапочки…
Девочка села рядом со мной, мальчик встал за ее сиденьем. Сестренка не сводила глаз с моей булки. Наверное, девочку не кормили сегодня? Я протянула ей булочку. Она взяла, но тут же обернулась на брата: не будет ли тот ругать? Однако мальчишка как-то затравленно смотрел прямо перед собой, не обращая внимания на сестру. Я посмотрела туда же, куда и он, – и поняла причину его страха: на нас медленно надвигалась контролерша.
– Твои? – спросила она, кивнув на детей.
– Мои, – ответила я.
– Пятнадцать копеек, – сказала женщина, отрывая нам билетики.
Я отдала деньги. Детей не выгнали из автобуса, как, наверное, уже случалось не раз. Девочка отломила брату кусочек булки и только потом начала есть сама.
Постепенно разговорились.
– Я – Вера, а брата Мишей зовут, – представилась девочка.
– Верочка, а куда же вы едете? Родители знают, где вы с братом находитесь? И где твои сапожки? В тапочках еще холодно ходить…
Я расспрашивала, а сама подозревала неладное. Наверное, родители этих детей пьют. Или их вообще нет на белом свете…
– Мы на автобусе, потому что ножкам холодно. И идти далеко. Мы к бабушке убежали! Дома мама с папой ругаются, кушать нечего. Миша в школу не пошел, меня к бабушке увел. Мы всегда у нее прячемся…
Вера рассказывала, а сама то и дело с тревогой оглядывалась на брата: не заругает ли он ее? Но Миша, повзрослевший раньше времени мальчуган, молчал. Он вообще не сказал ни слова.
Вышли мы из автобуса вместе. Я довела детей до дома и дождалась, чтобы дверь им открыла бабушка. Ушла, но вскоре вернулась с тортиком – в кулинарии тогда продавали вкусные торты под названием «Сказка». Еще раз постучала в дверь, за которой слышались детские голоса, отдала гостинец. Больше ничем не могла помочь этим детям, только этой вот сладкой сказкой.
– Спасибо тебе, милая, – улыбнулась бабушка. – Вот уж воистину мир не без добрых людей!
Да, не без добрых! Я видела: у Миши и Веры, у этих маленьких хрупких журавликов-корабликов, была в жизни надежная пристань. Домой я уходила с легким сердцем.
Каким же теплым выдался тот день! Я шла по весеннему городу, подставляя лицо солнечным лучам и улыбаясь прохожим. И люди мне по-доброму улыбались в ответ. Город оттаял, отогрелся, встряхнулся, прихорошился, ослепительно заблестел свежевымытыми окнами домов и витринами магазинов.
Поселить у себя дома солнечных зайчиков невозможно, хотя в ту минуту мне хотелось именно этого. А в душе, когда ты молод, чист и светел, им живется весело, радостно и свободно.
Пускай себе светятся, резвятся, озорничают! Сердце открыто настежь, душа – нараспашку. Самое время – юность, весна, апрель!..
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись одиннадцатая: «Сапоги из ничего»
Неприятный, нехороший сон, внешне бессмысленный.
Ловлю рыбу на льду и у маленького окуня, пробуя вытащить крючок, отрываю голову. Потом потрошу леща и извлекаю из него большого солитера. Это не обычный, будто полиэтиленовый, скользкий ленточный червь, какие часто попадаются в рыбах. У него на туловище ответвление вроде шеи, а на ней шесть белых, слепых хоботов, как у змея, и на другой шее – шесть, они живут медленно, точно просыпаясь, напрягаются пошевелиться…
И на другую ночь еще сон, более тошнотворный…
«Вот что делают!» – говорит мне какой-то машинист осудительно. Он работает в цехе на гигантской сковороде – как на экскаваторе. Снимает краном со сковороды крышку, а под ней – грудка мясного фарша, подозрительно грязного, а на ней вершина из перемолотого кала. «Дерьмо в котлеты заделывают!» – продолжает осуждать неизвестных поваров машинист и, не сбрасывая кал, опускает крышку. Сейчас туда чистый фарш пойдет. Меня начинает тошнить, я просыпаюсь…
Таких неприятных снов мне никогда не снилось. Сырое мясо, рыба, тошнота – все это признаки болезни каких-то внутренних органов. В конце концов они износятся, одрябнут, сгниют – это и есть смерть. И как мне хочется смело, будто со стороны, или как изо сна – понаблюдать за этим распадом. Со спокойным любопытством, как на чужую, посмотреть на свою плоть, живое вещество, умную глину, как она будет отделяться от меня. Это мое самое близкое, родное – мое тело. Как отвалить его – налево и направо, а самому пройти бороздой между, дальше, яко посуху? Помню, когда хоронили моего отца, брат его крикнул моей матери над могилой: «Не плачь, Августа, это закон природы!» Меня тогда так поразили эти странные слова. Брат, контуженный на фронте, через две недели и сам скончался от сердечного приступа. Пришел из магазина, успел отворить дверь в квартиру – и упал в прихожую по закону природы.
Или тошнотворный сон – это и есть само отделение от живого вещества?.. Сам станешь образом – и все поймешь. Тайна образа и его освобождение открываются в смерти. Как в загадке про свечу: тело бело, а душа портяна. Душа портяна светом выходит из телесного воска, и тогда обретает зрение, понимает, что она есть и что вокруг нее – видит…
Я в этой комнате работал всю ночь. Про меня говорят, что я яркая личность… Теперь я должен показать свое мастерство. Должен показать, что из ничего сделаю сапоги с ботфортами. Таких давно, уже с петровских времен не носят, три пары: зеленые, коричневые и синие – все из бумаги: прикрашено, притерто. Главное, я боялся, как выдержит эта бумага масляную краску: не залубенеет ли? Это же не кожа… Вчера в наш город приехал президент, и меня вызвал глава округа:
– Сможешь ли ты сшить такие необычные сапоги – из ничего? У тебя зрение – наоборот…
Я ответил главе:
– Да! У меня же дедушка был деревенским сапожником…
В трехкомнатной квартире Юрия Ивановича, бывшего редактора нашей районной газеты, прибрались, примылись, и мне отвели одну комнату: из нее убрана вся мебель кроме стола. Юрий Иванович спит в соседней, ему запретили ко мне даже входить, мешать; ну, может позвонить, если надо. На полу мне специально поставили телефон…
Почему же Дик лает? Хозяин пьяный перебил ему лапу, прогнал, и его прикормили наши соседи. Кто его пустил сюда? Это он на Юрия Ивановича рычит. Но тот не боится, хвалится, что он у нас всю перестройку сделал…
Ползаю по полу вокруг зеленых ботфорт, малахитово мерцающих новью, тем бутафорским, нездешним отблеском, что напоминает что-то сказочное, новогоднее из детства. Какими вытертыми кажутся вокруг них половицы! Этот пол по-настоящему никогда не сплачивали. Телефон стоит как раз у самой большой щели. Она забита настоящей землей, а в одном месте впрессовались с грязью волосины, какие-то волокна. И вдруг – может, от бессонной ночи и усталости – мне показалось в этой букле скатавшейся грязи что-то необычное… Может, она заколдованная, подкинута, чтобы испортить мою работу? Я вытянул волосины из щелки, распушил их натруженными ногтями.
Зрение утянулось внутрь, прикоснулось там к чему-то и судорожно всплыло вновь в комнату. И я посмотрел на сапоги уже с недоверием, словно кто-то внутри силился мне подсказать что-то из глубины, где уже теряется внутренний свет и начинается то, чем мы не пользуемся в мыслях, а только привычно скользим по нему, как птица в воздухе или рыба в воде…
Вошел неслышно, почти крадучись, президент из соседней, третьей комнаты, присел за стол вприклонку. Я вскочил:
– Готовы, сейчас, надо только чуть почистить!..
Президент кивнул на телефон на полу:
– Я буду звонить. Можно? Этим ветеранам…
Лицо сытое, увлеченное, ясное и приятное. Ни следа ночной усталости. Ушел, пока я чищу. Я сам удивляюсь, что они так хорошо получились, но будут ли носить их наши ветераны? Особенно эта вдова – Пылинкина? Та, что на окраине живет, Антонина Хилипова – будет. Износит во дворе, в хлев в них будет корм козе носить, и даже не заметит, что это сапоги из ничего… в которых ходят по меже… между тем и этим светом.
А Пылинкина – все равно слепая. Ее обуют в эти сапоги из ничего, и она пойдет, лунатично осязая ими дорогу, ощупью ступая, будто она спит и всё видит своими яркими сапогами. Так смотрят на зрелище нашей жизни образы, сияющие в своей недоступной, мысленной бездне. А мы отсюда, из яви, будем в восторге толпиться и кричать, как будто наступило преображение жизни…
…Это уже я додумываю наяву, проснувшись и грустно вспоминая, что мой отец в тридцатые годы работал бригадиром сплавщиков на Волге, ходил в серой рубашке-косоворотке, подпоясанной красным кушаком, и в кожаных болотных сапогах. Отцовские сапоги, только старые и изорванные, для образца и лежали во сне передо мной на полу. В них его и арестовали. Я их в яви никогда не видел…
А на Колыме, в детстве на новогодней елке меня раз нарядили волком: в жандармский китель, с саблей и в такие, с ботфортами бумажные сапоги…
Когда мы погружаемся в себя, в зыбкий мрак, где отстаивается свет вечности, жизнь из глубины кажется нам сновидением; но тут я спохватился, вспомнив, что ведь у Хилиповой был пожар, еще в прошлом году, в самые морозы. Пожарные приехали поздно, дом сгорел дотла. Долго искали Хилипову, ломиками долбили черный лед на пепелище. Нашли одну косточку, экспертиза потом показала, что она – собачья. Уже полтора года прошло, ничего найти не могут. Точно Хилипова обула приснившиеся мне сапоги из ничего и сама сделалась ничем, шагнув на таинственную межу, что отделяет тот свет от этого, нашего.
Литературный процесс
Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост (фрагменты)
ТАЙНА ЛЮБВИ
Разгадай эту тайну, логик, –
Ты приходишь, весь мир любя,
А уходишь, любя немногих,