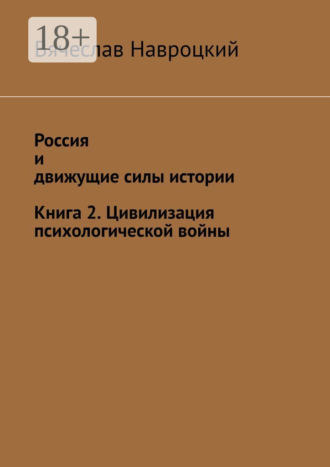
Полная версия
Россия и движущие силы истории. Книга 2. Цивилизация психологической войны
Тайного знания, однако, для влияния на общество недостаточно. Нужен еще определенный механизм влияния, который должен быть незаметен для общества. В случае масонства этот механизм реализуется с помощью той же модели, какая используется внутри масонства. Формально масонской ложей управляет ее Великий мастер, который выбирается путем голосования. Однако реальная власть в масонстве принадлежит не формальным руководителям, а масонам высших степеней. Последние выбираются не с помощью демократической процедуры, а методом кооптации. Иначе говоря, переход масона на более высокую ступень происходит не в результате голосования равных ему, а по решению более высоких инстанций, причем обратного перехода, то есть понижения степени, быть не может. Аналогичный принцип, как уже говорилось, существует в современной организации науки (присуждение научных степеней). Такой же принцип существовал в советской номенклатуре. Отличие масонства состоит в том, что рядовые члены ложи часто остаются в неведении относительно нового статуса своего «брата» и продолжают считать его равным себе. Это дает возможность обладателям высших степеней, действуя согласованно, влиять на принимаемые в ложе решения, не отдавая прямых указаний17. На этом же принципе основаны отношения между масонством и обществом. Как внутри масонства рядовые члены лож не могут противостоять согласованным действиям своих «старших братьев», так и в обществе неорганизованное большинство обычных людей не может противостоять согласованным действиям «посвященных», связь между которыми скрыта от всех остальных.
Очевидно, что эффективность принципа «скрытого управления» обществом посредством масонства критически зависит от принадлежности к масонству людей, занимающих высокие общественные или государственные посты. Этот «кадровый вопрос» решается традиционным образом, то есть путем «работы с молодежью»: перспективному молодому человеку предлагается помощь в продвижении «наверх» в обмен на членство в «братстве». Естественно, что, приняв такое предложение, человек становится винтиком в масонской машине. Как человек, воспользовавшийся помощью уголовного мира, уже не может разорвать с ним связь по своей воле, так и «посвященный» не может покинуть ряды «братьев» без фатальных последствий для себя. Точнее говоря, он может это сделать, если он не поднялся выше начальных степеней масонской иерархии и если его участие в масонских делах ограничивалось ритуалами посвящения новичков и последующими обедами в ложе. Бизнесмен средней руки может просто перестать посещать ложу; в худшем случае после этого у него могут возникнуть затруднения в бизнесе – даже не потому, что ему будут мстить его бывшие «братья», а потому, что они перестанут рассматривать его как привилегированного делового партнера. Но если этот человек входит в деловую элиту или занимает важный государственный пост, и тем более если достигнуть этого положения ему помогло его членство в ложе, то последствия разрыва с ложей будут гораздо серьезнее.
Человек, заключивший «контракт» с масонством, обязан ставить его интересы выше всех прочих, будь то интересы личные или государственные. Даже если масон является самым высокопоставленным лицом в государстве, он должен подчиняться указаниям тех «братьев», которые находятся выше него в масонской иерархии. Эти «братья» могут быть и гражданами другой страны. Отсюда понятно то тесное переплетение масонства и спецслужб, которое имело место в Англии уже в XVII веке и стало столь распространенным явлением в XX веке.
Еще одной общей чертой масонства, отмеченной выше в связи с использованием масонства в практике шпионажа, является его тенденция снижать значение различий между народами и избегать опоры на национальные чувства своих членов. Эта именно тенденция, которая не исключает проявлений противоположного характера. Например, итальянское масонство выступало за создание единого итальянского государства на протяжении почти полутора веков. Вот что в 1935 году отмечал в своих «Лекциях о фашизме» Пальмиро Тольятти, руководитель Итальянской коммунистической партии:
«Итальянская буржуазия имела одну объединенную политическую организацию в лице масонства, которая, однако, не была политической партией. До войны масонство представляло собой единственную унитарную организацию буржуазии политического характера. Она сыграла выдающуюся роль не только в борьбе за объединение Итальянского государства, не только в борьбе за национальное освобождение Италии, но также и в процессе политического объединения различных групп итальянской буржуазии, в усилении влияния крупной буржуазии на слои мелкой и средней буржуазии» (Тольятти 1974, с. 57).
Однако после того, как объединение и освобождение Италии было достигнуто, итальянское масонство приобрело «нормальный», космополитический характер. Еще более серьезный пример нарушения общей тенденции являет собой еврейское масонство, представленное, прежде всего, орденом Бнай-Брит. В целом можно утверждать, что принцип космополитичности делает масонство удобным инструментом для влияния определенных этнических групп или политических элит на ситуацию в той или иной стране. Наиболее успешными пользователями космополитичного характера масонства показали себя среди этнических групп евреи и англосаксы. Среди государств эту особенность масонства наиболее эффективно использовали, соответственно, те страны, где указанные этносы доминируют – Великобритания, США и Израиль.
Масонство и пропаганда
Описанный выше принцип «скрытого управления» не объясняет до конца той фантастической силы масонства, о которой столько пишут и говорят. Тайное общество, конечно, может подготовить переворот, если в обществе имеются подходящие для этого условия. Но в случае масонства речь идет о большем: масонство само может создавать или уничтожать условия для переворота. В этом, собственно говоря, состоит одна из его главных задач, и на этом основана его роль в историческом процессе. Решить такую задачу никакое тайное общество само по себе не в состоянии, поскольку его контакты с миром по определению ограничены. Члены тайного общества могут занимать высокие посты и в силу этого влиять на государственную политику в интересах своей организации, но этого недостаточно, чтобы влиять на настроения масс, от которых зависит стабильность любого социального порядка.
Каким же образом масонство может влиять на общественные настроения? Об этом замечательно написал в серии своих докладных записок выдающийся представитель спецслужб Российской империи конца XIX – начала XX века Леонид Ратаев. Этот человек в 1898 году создал и возглавил в Департаменте полиции Особый отдел, который выполнял функции политической полиции. В 1902 году в результате интриг в Министерстве внутренних дел он был отправлен в «почетную ссылку» – руководить заграничной агентурой Департамента полиции. Еще через три года он был отправлен в отставку и с этого поста, после чего до своей смерти в 1917 году проживал в Париже под фамилией Рихтер. После отставки он продолжал вести в Париже жизнь светского человека. Имея обширный круг знакомых, он был вхож в различные круги и получал информацию по самым различным каналам. Когда в конце 1910 года в российских правительственных кругах возникло беспокойство в связи с тем, что масонские ложи в России активно занялись политикой, Департамент полиции обратился к Ратаеву в январе 1911 года с просьбой о помощи. В ответ Ратаев представил в Департамент несколько записок. В одной из них, датируемой январем 1914 года, он пишет следующее:
«Дело в том, что если бы вся масонская деятельность сосредоточивалась только в ложах, то едва ли, несмотря даже на масонскую солидарность, они могли бы пользоваться особым ощутительным влиянием. По последнему подсчету, во всей Европе в 1908 г. насчитывалось всего 355 479 масонов, а в Америке и в Австралии 1 185 241, итого в общем на целом свете не более полутора миллионов. Это капля в человеческом океане, и едва ли при дроблении этой цифры на разные, иногда враждебные друг другу, системы масонство могло достигнуть прочных, осязательных результатов. А между тем это влияние несомненно существует и ощущается повсюду, где существует масонство. Объясняется это тем, что в ложах в тайне и тишине вырабатываются лишь основные начала, а в жизнь их проводят не сами ложи, а многочисленные подмасонские организации, которые, не нося масонской этикетки, имеют не замкнутый, а общедоступный характер. Такими подмасонскими организациями служат самые разнообразные общества или союзы, кассы, кружки и т. п. учреждения, преимущественно просветительного и филантропического характера. Главным контингентом подобных обществ являются не масоны, а профаны, и лишь руководителями служат несколько испытанных масонов, действующих как бы независимо и самостоятельно, но, в сущности, по внушению и указке лож. Вовсе не требуется, чтобы масонов было большинство. Два-три человека, твердо знающие, чего они хотят, к чему стремятся и чего добиваются, будут всегда иметь перевес над толпой несговорившихся людей, большей частью не имеющих определенной программы и никаких твердо установившихся взглядов. Делается это обыкновенно так: несколько масонов, наметив себе определенную задачу, организуют какое-нибудь легальное общество или втираются в уже существующее и привлекают к нему заранее намеченных профанов из таких, которые по своим умственным и нравственным качествам кажутся подходящими. Повинуясь сначала внушениям руководителей, такие профаны быстро усваивают масонский дух и превращаются в усердных, подчас бессознательных, проводников усвоенных идей в той среде, которая им отведена по масонским соображениям, влияя на общественное мнение, а иногда и создавая его» (цит. по Платонов 1998, Приложение №14).
То, о чем пишет Ратаев, справедливо по отношению не ко всякому обществу, а только к такому, в котором существует «свобода слова». В условиях диктатуры или «тоталитаризма» общественное мнение создается другими способами. Особенно эффективно масонство действует в государствах, где существует так называемое «гражданское общество», то есть такое общество, члены которого имеют право и реально могут создавать независимые от государства организации. Показательно, сколь большое внимание уделяется популяризации концепции «гражданского общества» в постсоветской России; отсутствием или недостаточным развитием «гражданского общества» объясняются буквально все русские беды. В этой набившей оскомину пропаганде «гражданского общества» нетрудно видеть руку масонства – которое при этом заботится, конечно, не о благе народа, а о создании для себя благоприятной среды.
С самого своего зарождения масонство было организацией не столько заговорщической, какой оно представлено в популярных версиях «теории заговора», сколько пропагандистской. Оно создавало и направляло фронт пропаганды, состоящий из множества легальных общественных организаций. В решающие моменты истории масонские центры или отдельные масоны могли брать на себя роль непосредственных организаторов революций и переворотов, но этим моментам всегда предшествовала длительная и кропотливая пропагандистская работа. Александр Селянинов в характерной для него образной манере сформулировал этот тезис следующим образом:
В «масонской деятельности периодам активного выступления, которые бывают всегда напряжены, но очень кратки, предшествуют всегда долгие годы незаметной, тщательной подготовительной работы. Открытые выступления масонов редки и только тогда, когда они по расчетам могут действовать наверняка. Большею же частью на масонстве лежит единственная задача подготовлять эти редкие и быстрые как бы удары посредством долгих периодов пропаганды, обмана, подделки общественного мнения и постепенного воспитания умов в необходимом для их целей направлении. Масонство при этом не стесняется в способах, лишь бы все это всегда происходило скрыто. (…) Можно даже сказать, что истинная цель масонства заключается только в одной подготовке периодов действительных выступлений, при самых же этих выступлениях масонство как бы стушевывается. Оно дрессирует людей в виду определенной цели, как дрессируют собак для того или иного рода охоты. Мало помалу оно добивается того, что обращает людскую волю в механизм, тайну приведения в действие которого знает только скрытая тайная сила, являющаяся последним направляющим звеном в длинной цепи связанных одна с другою причин масонского „действа“. Когда настает благоприятный момент, эта причинная сила спускает своих привязанных к масонской будке собак, заранее уверенная, что они бросятся именно на ту добычу, на которую их предварительно долго натравливали. Тогда масонские собрания прекращаются и масоны как бы исчезают с лица земли; этим масонство избегает всякой ответственности, и трудно поэтому установить воочию участие масонов в тех или иных революционных действиях. Спрятавшиеся вовремя и не уличенные, масоны снова имеют возможность начать свою разлагающую подготовительную работу беспрепятственно, когда это будет признано нужным. В момент же активных действий выпущенные из лож масоны принимают какое угодно наименование, лишь бы оно скрывало их принадлежность к масонству. Они будут называться якобинцами, монтаньярами, террористами, коммунистами, оппортунистами, радикалами, кадетами, октябристами, – словом, чем угодно, только не масонами. Будет казаться, что они работают за свой страх и риск, а в действительности они, как загипнотизированные, будут делать то, что прикажут им гипнотизеры, зачаровавшие их. Но что бы они ни делали, какие бы преступления ни совершали, находясь под влиянием этого зачарования, масонство всегда сможет отпереться от них и сказать: „мы тут не причем; они действуют сами от себя“» (Селянинов 1911).
Возникает, однако, вопрос: кто же эти «гипнотизеры»? «Политические писатели», о которых говорил Берк и к которым принадлежал он сам, вряд ли могут претендовать на эту роль. Скорее они выполняют функции «натравленных собак». Французский историк Огюстен Кошен пришел к выводу, что наличие «гипнотизеров» – иллюзия, и что единственный актер на социальной сцене – это социальный процесс, не имеющий никакой «человеческой» цели. Вопрос о «гипнотизерах» слишком сложен и слишком важен, чтобы торопиться с ответом на него. Мы будем несколько раз возвращаться к нему в дальнейшем.
Масонство и Французская революция 1789 года
Выше мы уже коснулись вопроса о роли масонства в английской революции 1688 года. Однако тема масонства гораздо чаще поднимается в связи с французской революцией 1789 года. Первым это сделал французский аббат Лефранк, опубликовавший в 1791 году книгу под названием «Завеса, приподнимаемая для любопытствующих, или тайна Революции, раскрытая при помощи франкмасонства». Год спустя Лефранк опубликовал новое, еще более обширное сочинение на ту же тему18. Сразу после выхода в свет этого труда Лефранк оказался в тюрьме и был убит там во время массовой резни 2 сентября 1792 года.
Книги Лефранка поначалу остались почти незамеченными, однако в конце XVIII века еще один французский аббат, Огюстен де Баррюэль, бывший иезуит и впоследствии настоятель собора Нотр-Дам-де-Пари, опубликовал в Англии четырехтомный труд под названием «Мемуары к истории якобинизма»19. Этот труд получил высокую оценку со стороны Берка, который умер через два месяца после опубликования первого тома. К 1812 году «Мемуары» были переведены на девять языков, в том числе и на русский, и неоднократно переиздавались после этого на протяжении, по крайней мере, четверти века. Потом последовали публикации и других очевидцев. В частности, Селянинов в «Тайной силе масонства» упоминает двух современников Баррюэля – Ломбара де Ландра и Бутильи де Сент Андре, и приводит следующую характерную цитату из работы де Ландра Les Societes Secretes en Allemagne (1819): «Чтобы найти ключ ко всем революциям, начиная от убийства Карла I до убийства Людовика XVI, приходится всегда прежде всего обращаться к таинственным масонским братствам… Красная фригийская шапочка, которая в 1793 году стала эмблемою якобинцев, была также головным убором британских индепендентов при возвышении Кромвеля» (Селянинов 1911).
Говоря о концепции Баррюэля, профессиональные историки часто указывают на отсутствие доказательств, каковыми они считают ссылки на источники. Однако Лефранк, Баррюэль и другие французские авторы того времени были очевидцами событий. Иначе говоря, они сами были источниками. Каждый из нас может рассказать много такого, что будет интересно историкам через пару сотен лет – но при этом мало кто сможет обосновать свои утверждения ссылками на «источники». Очевидец может быть пристрастен и подвержен влияниям своего времени, но игнорировать на этом основании все его заявления было бы, мягко говоря, неразумно. Однако именно так долгое время поступало большинство профессиональных историков в отношении тех наблюдателей французской революции, которые указывали на масонов.
Ситуация понемногу стала меняться только в семидесятые годы XX столетия. Знаковым событием стал коллоквиум, организованный в 1973 году французским Институтом масонских исследований в честь 200-летия Великого Востока. С докладом на этом коллоквиуме выступил историк Альбер Собуль, многие годы возглавлявший20 «классическое» направление в изучении революции 1789 года (то есть направление, отрицающее тезис о масонском заговоре). Суть доклада Собуля сводилась к тому, что масонские ложи были своего рода школами новых форм политической культуры, где сходились вместе представители просвещенной буржуазии и либерального дворянства, и где они отрабатывали навыки публичного выступления, дискуссии, выборов и других демократических процедур. В докладе говорилось также о том, что в начале революции ее организаторы использовали для координации движения свои масонские связи.
Через полтора десятка лет другой признанный французский специалист – Даниэль Лигу, член ордена «вольных каменщиков» с конца 1940-х годов, в монографии «Масонство и Французская революция» (1989) признал, что исследование Баррюэля об иллюминатах обладает несомненной научной ценностью. Тот факт, что историк, в течение сорока лет третировавший труд Баррюэля как недоброкачественный, вдруг признал ценность собранного аббатом документального материала и даже заявил о важности поставленных им научных проблем, свидетельствует не только том, что наука не стоит на месте, но и о том, сколь мало можно доверять академической историографии.
Аналогичный сдвиг произошел в объяснении французской революции британскими и американскими академическими историками. Например, Маргарет Джейкоб пришла к выводу, что масонство, не будучи главной или самостоятельной причиной революции, несет ответственность за пропаганду идей, подрывавших авторитет монархии и Церкви (Jacob 1981, 1991).
Тем не менее, во Франции пока что преобладает прежняя точка зрения. И это не удивительно – ведь в этой стране, как отмечает известный российский специалист по французской революции А. В. Чудинов, до сих пор не произошло идеологического «охлаждения» темы:
«Предпринимаемые время от времени отдельными историками попытки вынести проблему за рамки одномерного пространства „классической“ интерпретации, неизменно встречают энергичный отпор со стороны ее приверженцев. Те, следуя принципу „кто не с нами, тот против нас“, расценивают каждую такую попытку как очередное проявление „баррюэлизма“. Острота полемики с их стороны и нетерпимость к оппонентам обусловлены крайней идеологизированностью во Франции истории Революции в целом и масонской тематики в особенности. Представители „классической“ историографии, тесно связанные с политическими силами левой ориентации, традиционно рассматривают свои споры с историками консервативного, а в послевоенный период и „ревизионистского“ направлений, как один из компонентов всеобъемлющей идейно-политической борьбы. Соответственно им, по чисто идеологическим соображениям, крайне сложно признать научную ценность методологических поисков, предпринимаемых по другую сторону „берлинской стены“, разделяющей французских историков Революции. Имеющиеся же у них возможности вполне позволяют им скомпрометировать в научном плане любую подобную инициативу…» (Чудинов 1999).
Очевидно, что проблема, затронутая в этом отрывке Алексеем Чудиновым, касается всей сферы общественных наук, поскольку вся эта сфера идеологизирована (и было бы странно, если бы было иначе). Что касается французской историографии, то многие, если не большинство, из французских историков были и являются масонами, и это не может не накладывать отпечаток на их научную деятельность. Хотя французские «вольные каменщики» в прошлом неоднократно и с гордостью заявляли о причастности своего ордена к революции21, их нынешние руководители не заинтересованы в глубоком анализе деятельности ордена, даже если речь идет о периоде двухвековой давности.
Об этом можно судить, в том числе, по вышеупомянутой монографии Даниэля Лигу «Масонство и Французская революция» (1989). Произведенная в этой работе частичная «реабилитация» Барруэля вовсе не говорит о том, что Лигу изменил свои взгляды по рассматриваемому вопросу. Скорее, это хитрый ход, имеющий целью сохранение прежней позиции. Дело в том, что та часть «Мемуаров» Баррюэля, которая посвящена иллюминатам, находится в противоречии с его общей концепцией, как она сформулирована в начале его труда. «Мемуары к истории якобинства» в оригинальном английском издании состоят из четырех томов: первый том посвящен «философам», второй – масонству, третий и часть четвертого – баварским иллюминатам. И если в первых двух томах Баррюэль доказывает, что революцию подготовили «философы» и масоны (в том числе «шотландские» и розенкрейцерские ложи), то в последних двух томах он переносит всю тяжесть обвинения на иллюминатов, которых он представляет как тайное общество, захватившее контроль над германским и французским масонством. В итоге весь труд Баррюэля производит противоречивое впечатление, что было замечено уже его современниками, прежде всего Жозефом де Местром. Духовный отец континентальной Контрреволюции утверждал, что труд Баррюэля великолепен в деталях, но ошибочен в целом (Riquet 1989, Jones 2008). То же самое утверждает в своем предисловии к современному изданию книги Баррюэля известный философ и теолог Стэнли Яки (Stanley L. Jaki) (Barrruel 1995, p. XXII). С этим мнением согласен и Джонс, который замечает, что в «Мемуарах» Баррюэля целое меньше составляющих его частей (Jones 2008, p. 545). Джонс пишет, что, выставляя баварский «иллюминизм» в качестве главной силы, подготовившей революцию во Франции, Баррюэль уводит в тень масонство – а, следовательно, и Англию, которая насаждала масонство во Франции. С учетом этого замечания «прозрение» Лигу предстает совсем в ином свете.
Ангажированность современных историков-масонов более или менее легко понять, но как быть с самим Баррюэлем? До революции Баррюэль тоже был масоном (Jones 2008), но вряд ли в его случае это что-то объясняет. Он был из числа тех, кто был поверхностно увлечен модой на это движение. Такими же масонами были Берк и де Местр22 (причем последний поначалу, в отличие от Берка, приветствовал революцию во Франции). Как профессиональный критик философии Просвещения, Баррюэль не мог не понимать, что путь к революции начался задолго до выхода на историческую сцену баварских иллюминатов (это произошло в 1776 году). К тому же он прекрасно знал, что организация Вейсгаупта первые несколько лет, до появления в ее рядах барона Книгге, представляла собой не более чем университетское братство, и что из-за внутренних разногласий и преследования баварских властей эта организация фактически перестала существовать в 1785—1787 годах. Таким образом, даже из хронологии событий понятно, что возлагать какую-либо существенную долю ответственности за французскую революцию на баварских иллюминатов нет оснований.
Но это не единственная странность «Мемуаров к истории якобинизма». Другая странность состоит в том, что автор исследования пишет об английском масонстве только хорошее. Чтобы доказать, что английские масоны не имели ничего общего с революционной деятельностью, он даже ссылается на масонскую конституцию Андерсона. Такая наивность Баррюэля в отношении английского масонства контрастирует как с его трезвым взглядом на германских и французских масонов, так и с общим настроением первого тома его мемуаров.
Джонс объясняет такую непоследовательность Баррюэля тем обстоятельством, что он начал писать книгу во Франции, а закончил и издал в Англии (Jones 2008). По мнению Джонса, первоначально «Мемуары» были задуманы как собрание фактов, изобличающих Англию, однако после эмиграции в Англию, которая произошла в сентябре 1792 года, взгляд аббата на роль приютившей его страны изменился. Дело было не только в том, что Баррюэль не имел возможности писать то, что думал (точнее, писать-то он мог, но без надежды это опубликовать). В протестантской Англии нашло убежище от восьми до десяти тысяч католических священников из Франции. Архиепископ Кентенберийский предоставил свою резиденцию в распоряжение эмигрировавших французских епископов, а король Георг III поселил в винчестерском королевском замке 600 французских священников. Эдмунд Берк принимал активное участие в оказании помощи эмигрантам и в течение года собрал для них 32 тысячи фунтов. Кроме того, Берк поддерживал, в том числе деньгами, самого Баррюэля, пока тот работал над «Мемуарами». Вполне естественно, что все это повлияло на мнение Баррюэля относительно причастности Англии и английских масонов к революции во Франции.



