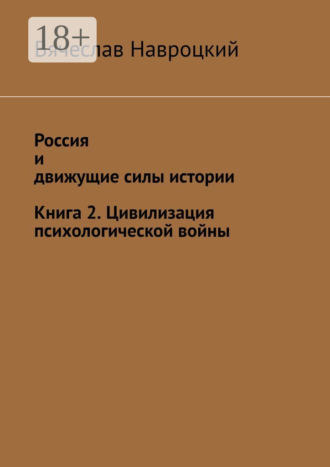
Полная версия
Россия и движущие силы истории. Книга 2. Цивилизация психологической войны
В этой ситуации христианизация Руси и включение ее в юрисдикцию Константинопольского патриархата рассматривались византийской имперской элитой как задача первостепенной важности. Выполнить эту задачу Византия могла только с помощью «мягкой силы». В знаменитой «Повести временных лет», составленной в Киеве в XI веке, приводится рассказ послов князя Владимира о посещении в Константинополе собора Святой Софии: «Они привели нас туда, где служат Богу своему, и мы не знали, на небе ли были или на земле: ибо нет на земле красоты такой, и не знаем, как ее описать, только знаем, что там Бог с людьми пребывает». Для того и была построена Айя-София, чтобы производить впечатление на иностранцев. Богатое убранство внутри храма, мозаики, золото, одеяния священников, красота хорового литургического пения – все служило этой цели.
Дошедшие до нашего времени сведения о крещении Руси вполне позволяют определить это событие в современных терминах как крупную «психологическую операцию» Византии (этот термин – psychological operation – был введен в оборот в 1950-х в США). Русь была большим государством, которое представляло для Византии серьезную военную угрозу, и это государство было превращено в союзника, предоставившего свою армию в распоряжение византийского императора. Русскую церковь возглавил представитель Византии в сане митрополита, большинство епархий первое время также возглавляли епископы из Византии. Известный церковный историк и византист Иоанн Мейендорф в монографии «Византия и Московская Русь» пишет, со ссылкой на работу русского историка Владимира Иконникова «О культурном значении Византии в русской истории» (Киев, 1869):
«Из двадцати трех митрополитов, которые упоминаются в летописях домонгольской эпохи, семнадцать были греками и только два – русскими (национальность четверых неизвестна). Хотя большинство епископов избиралось из среды местного духовенства, некоторые были, несомненно, греками. Источники говорят о наличии греческих учителей и книг во многих областях Руси».
В другом месте того же труда Мейендорф называет имена этих «двух русских» митрополитов и комментирует их назначение на киевскую кафедру:
«Византийские власти с самого начала христианства на Руси крепко держали бразды правления русской митрополией и ставили митрополитами епископов—греков. Двое русских – Илларион (1051 г.) и Климент (1147—1155 гг.) стали митрополитами вследствие сознательного нарушения традиции, чему, по крайней мере в случае с Климентом, воспротивились не только греки, но и те русские, которые стремились сохранить канонический status quo. Только в XIII веке, когда ослабленное византийское правительство, укрывшееся в Никее, вынуждено было усвоить более гибкую политику относительно православных славян, русским князьям было позволено выдвигать своих кандидатов на митрополичью кафедру, но патриархат сохранял за собой право утверждения. …до XIII века киевскую кафедру постоянно занимали греческие иерархи. Более того, в высшей степени официальный текст XIV века – акт избрания Алексия в 1354 году, утвержденный патриархом Филофеем, – описывает назначение митрополита из русских как исключение и снисхождение со стороны патриархата» (Мейендорф 1990).
Этот способ влияния на Русь, помимо своего основного назначения, приносил Византии непосредственную экономическую выгоду, обеспечивая «рабочие места» для ее многочисленной монастырской братии. Вот что пишет об этом русский и советский историк Николай Никольский в своем труде «История русской церкви»:
«Для константинопольского патриархата новая церковь была колонией, куда могли быть направлены все „излишки“ клерикального населения. А излишка эти были весьма значительны… Вся эта армия, конечно, не могла прокормиться на греческих хлебах, многие голодали и нищенствовали; „перепроизводство“ заставляло патриарха искать новых мест для насаждения „истинной“ веры. Когда под властью константинопольского патриарха появилась новая русская церковь, из византийского запасного резервуара хлынули готовые отряды „просветителей“ и „святителей“. Не только все первые епископы, но и все первые священники и монахи были в Киевской Руси из греков. Основателем Киево-Печерского монастыря был афонский монах Антоний; другие монастыри ставились русскими князьями и боярами, но для управления ими приглашались также греческие монахи, приводившие с собою и ядро „подвижников“. С течением времени в составе приходского духовенства и монашества появился, конечно, и значительный процент местных людей; но митрополия и епископат по-прежнему оставались, за немногими исключениями, греческими» (Никольский 1985).
Со временем участие греков в непосредственном руководстве Русской церковью постепенно снижалось, однако культурная и формально-административная зависимость от восточных церквей, прежде всего от Константинопольского патриархата, сохранялась даже в период резкого ослабления Византии в XIII – XIV веках. Более того, каноническая власть Константинопольского патриархата над Русской церковью и духовное влияние Византии на славянские страны в целом в XIV веке «парадоксальным образом» усилились, «несмотря на крайнюю политическую слабость [Византийской] империи» (Мейендорф 1990). Парадокса здесь, впрочем, никакого не было, ибо усилением административной канонической власти и духовного влияния Византия как раз и старалась компенсировать свое политическое ослабление. Конечно, это было возможно только благодаря тому, что Русь представляла собой очень молодую и совершенно неискушенную в идеологических войнах цивилизацию.
Для Руси принятие христианства, несомненно, было событием огромной исторической важности. С этого события, по сути дела, началось формирование русского этноса и русской цивилизации. Значение этого события определяется, в числе прочего, тем, что оно, будучи до некоторой степени следствием случайного совпадения ряда обстоятельств, породило закономерность, которая в дальнейшем проложила себе дорогу через все случайности исторического процесса. Крещение Руси как бы поставило колесо русской истории в определенную колею, из которой это колесо в последующем уже не могло выбраться. Эту колею можно определить как особый способ развития, главной чертой которого является происходящий время от времени отказ от собственного опыта и собственных традиций, и замещение их идеями, заимствованными у других народов и цивилизаций. Каждый такой отказ имеет форму революции – как минимум, революции культурной, но чаще захватывающей все сферы общественного бытия. По сути дела, крещение Руси и было первой такой революцией.
Насколько эта революция была закономерной и была ли ей альтернатива? На первый из этих вопросов все историки отвечают утвердительно, второй вопрос обычно просто никому не приходит в голову. Мы бы ответили на эти вопросы следующим образом: в конце X века Древняя Русь после краткого начального периода быстрого развития достигла точки, в которой характер развития не мог оставаться прежним. В наше время такие точки любят называть точками бифуркации. Далее возможны были два пути. Первый путь имел характер эволюции. На этом пути новое должно было вырастать из старого. Этот путь был продолжением прежнего, но с тем отличием, что далее развитие не могло продолжаться с такой же скоростью. Оно должно было замедлиться, потому что жителям Руси предстояло решать очень серьезные проблемы – и делать это самостоятельно, без чьей-либо помощи. На основе собственных опыта, традиций, интуиции им предстояло выработать новые формы самоуправления, придумать новые правила общежития, согласовать и упорядочить свои религиозные представления (возможно, создать новую религию). История последующих веков показывает, что жители Руси обладали достаточным духовным потенциалом, чтобы выполнить все это. Но смогли бы они реализовать этот потенциал в тех геополитических условиях – этого, конечно, никто не знает.
Другой путь имел характер революции. Этот путь позволял продолжить развитие с той же и даже большей скоростью, потому что на этом пути решение вышеуказанных проблем происходило на основе чужого опыта и чужих традиций. Крупномасштабное заимствование позволяло сэкономить время и силы, однако отказ от использования в полной мере собственного потенциала делал этнос в долговременной перспективе менее жизнеспособным.
Чтобы понять, каким, гипотетически, мог быть иной сценарий развития событий на Руси в конце X века, обратимся к истории возникновения средневековой арабской цивилизации. Когда в начале VII века перед языческими племенами Аравийского полуострова встала задача выживания и развития, они взяли от иудаизма и христианства то, что не входило в противоречие с их традициями и психологией, и создали на основе этого осмысленного и дозированного заимствования новую религию – ислам. Это было непросто. После смерти пророка Мухаммеда почти вся Аравия, кроме Мекки и Медины, вернулась к язычеству. Но в конце концов ислам был воспринят массами и под его знаменем были завоеваны огромные территории. Возник супер-этнос, который создал Арабский халифат, просуществовавший до XIV века и явивший миру замечательные достижения в области философии, литературы, математики, медицины, строительства городов и сельского хозяйства.
В жизни народов и цивилизаций бывают моменты, когда их можно уподобить школьнику, которому надо решить трудную математическую задачу. Самостоятельный поиск решения займет у школьника (если он не математический гений) много времени, причем решение, возможно, так и не будет найдено. Но если оно все-таки будет найдено, то в последующем ученик будет чувствовать себя более уверенно и сможет раскрыть все свои способности. Ленивый или очень неуверенный в себе ученик может поступить иначе – переписать решение задачи из тетради своего более способного товарища или старшего брата. Тем самым он точно решит проблему, которая в данный момент представляется ему самой главной. Ему ведь в данный момент представляется самым важным не развитие собственных способностей. Он беспокоится в первую очередь о том, чтобы учитель не поставил ему плохую оценку, чтобы его не ругали родители, чтобы у него осталось время поиграть с ребятами во дворе. Несомненно, самый эффективный путь достижения этих целей – взять у товарища готовое решение.
Очень важно, как поведет себя школьник, впервые оказавшись в такой ситуации. Если он в первый раз предпочтет воспользоваться чужими результатами, то, скорее всего, в последующем он будет поступать так же. Первый выбор варианта поведения задает соответствующую «колею», а каждый следующий выбор того же варианта делает эту «колею» все более глубокой.
Киевские князья выбрали готовое решение. Религиозную реформу провел в конце X века (традиционно это событие относят к 988 году) князь Владимир, но подготовка к реформе началась тремя десятилетиями ранее, когда крещение приняла княгиня Ольга (Владимир был ее внуком). К введению на Руси «греческой религии» склонялся и брат Владимира – Ярополк (о его симпатиях к христианству пишет В. Н. Татищев). Многие историки полагают, что где-то за столетие до княгини Ольги крещение приняли князья Аскольд и Дир c некоторым количеством бояр и простых людей (так называемое «Аскольдово крещение Руси»). Это общее движение верхнего слоя древнерусского общества в сторону христианства диктовалось рядом обстоятельств, описанных во многих исторических трудах. Но мы здесь хотим обратить внимание на то, что это движение отражало некую общую черту характера тех людей, из которых впоследствии сложился русский этнос.
Возможно, в тот период эта черта еще не была столь заметной, какой она стала впоследствии. Когда князь Владимир овладел Киевом в 980 году, он попытался ввести на Руси единую веру, упорядочив пантеон древнерусских богов. Если бы он был более упорен в этом намерении и при этом более гибок, Русь могла остаться еще на какое-то время с реформированным язычеством. Но все сложилось иначе.
Выбор, который в конечном итоге сделал князь Владимир, не был полностью предопределен. Этот выбор в определенной степени был результатом политической игры, которую вел киевский князь с правителями других государств, а всякая игра содержит в себе случайные элементы. В 987 году князь Владимир согласился помочь Константинополю подавить опасный мятеж, поставив условием отдать ему в жены царевну Анну, сестру императоров Василия и Константина. Императоры, в свою очередь, условием этого брака поставили крещение князя. Из этой цепочки обстоятельств достаточно было выпасть какому-то одному – и крещение Руси могло бы не состояться или состояться как-то иначе и в другое время. Таким образом, хотя для крещения Руси существовали объективные предпосылки, оно было до некоторой степени случайным (как это и должно быть в соответствии с математической теорией бифуркаций). Однако эта случайность положила начало закономерности, поскольку событие произошло в тот период, когда шло формирование русского этноса и, соответственно, закладывались основы русской ментальности.
Можно указать на еще одну закономерность, которую породило (или, во всяком случае, стало ее первым проявлением) крещение Руси. Мы имеем в виду русскую традицию «революций сверху». В том, что крещение Руси было проведено «сверху», не было уже ничего случайного. Народ никогда сам не отказывается от своих традиций. Так поступать может только малая часть народа, которая потом различными способами может пытаться навязать свой выбор всему народу. Не обязательно это должна быть верхушка общества – вспомним о явлении Малого Народа, описанном Кошеном и Шафаревичем. Но в Древнерусском государстве, в силу простоты его социального устройства, Малый Народ просто не мог появиться. Радикальные реформы в этом государстве могли быть проведены только сверху и только с применением насилия. В последующие века социальная механика, посредством которой русское общество перестраивало себя по чужим образцам, уже никогда не была такой простой, но ведущая роль правителя или верхнего слоя общества в этой механике в большинстве случаев сохранялась.
Традиционная точка зрения на крещение Руси включает в себя несколько утверждений, которые в своей совокупности доказывают, что принятие христианства наилучшим образом соответствовало потребностям Древнерусского государства. На первом месте, как правило, указывается потребность в преодолении межплеменных конфликтов. Утверждается, в частности, что язычество препятствовало объединению русских людей в единый народ, потому что жители разных местностей и даже люди разных профессий чтили разных богов. Поэтому, якобы, не удалась первая религиозная реформа князя Владимира, когда он сократил число языческих богов до шести, «назначив» главным из них Перуна, бога княжеской дружины. Будучи хаотичной совокупностью различных верований, язычество было пригодно для первобытнообщинного общества, но не для феодального. Духовным основанием для власти сюзерена мог быть только монотеизм.
Эти утверждения, воспроизводимые в исторических трудах и энциклопедиях уже на протяжении столетия, воспринимаются в наше время как нечто само собой разумеющееся. Тем не менее, в истории человечества можно найти немало примеров, когда объединение племен и территорий происходило на основе (или в присутствии) самых разных религий, в том числе политеистических. В Древнем Риме – который, конечно, отнюдь не был первобытнообщинным обществом – были сотни богов, и их число возрастало с каждой новой присоединенной территорией. Как мы знаем, это не помешало Древнему Риму стать одной из величайших цивилизаций в мировой истории. То же самое можно сказать про феодальную Японию или про империю инков. Япония как государство возникло в VII – VIII веках, когда правители провинции Ямато на острове Хонсю подчинили себе население всех Японских островов. На Японских островах в этот период были распространены две религии – синто и буддизм. Первая из них представляла собой совокупность традиционных для местных жителей анимистических верований, а вторая была перенесена из Кореи и Китая (возможно, что и синто пришла оттуда же, но гораздо раньше). Правители Ямато не стали заставлять своих подданных отказываться ни от синто, ни от буддизма, который был особенно популярен у японской аристократии. Вместо этого они собрали мифы всех народностей и представили эти мифы в двух текстах («Записи о деяниях древности» и «Анналы Японии»), которые были объявлены священными. При этом в мифы были внесены минимальные изменения, призванные способствовать объединению племен под властью правящей династии. В частности, богиня Солнца Аматэрасу была объявлена предком правящей династии, так что местные и клановые боги «автоматически» заняли подчиненное положение. Также был установлен список государственных религиозных праздников и государственных храмов, поддерживаемых императорским домом. Чтобы избежать столкновения с буддизмом, местные боги – ками – были объявлены покровителями буддизма; позже некоторые из них превратились в буддийских святых. На территории синтоистских храмовых комплексов стали размещать буддийские храмы, а буддийские сутры стали читать в синтоистских святилищах. В обряды и эстетику синто было перенесено много элементов из буддизма, возникли смешанные синто-буддийские учения. В IX веке буддизм был официально объявлен государственной религией, но никаких гонений на синтоизм не было, так что фактически имело место сосуществование двух государственных религий.
Сравнивая Киевскую Русь со средневековой Японией, можно заметить, что буддизм играл в Японии роль христианства в том смысле, что представлял собой сложное учение, доступное во всей его полноте только образованным людям, в то время как синтоизм играл роль язычества – более простой религии, укорененной в древних традициях и обрядах. Заимствование имело место и в Японии, но характер его был иной. На Руси язычество искоренялось и подавлялось в пользу христианства, в то время как в Японии ничего подобного не было.
Выбрав один раз «свою колею», Япония и в последующем, оказываясь в критических точках, повторяла этот выбор. Так, например, произошло в ходе «революции Мэйдзи» во второй половине XIX века. Тогда японская элита стала внедрять достижения западной цивилизации, но при этом поставила мощный «фильтр» на пути проникновения западной культуры. Опасаясь потери своей самобытности, японцы отказались даже от буддизма, провозгласив официальной религией синтоизм. Таким образом, они не только преодолели соблазн неограниченного использования культурного опыта Запада, но и отказались от опоры на более близкий им, но все же чужой, опыт восточных цивилизаций.
Существует гипотеза, которая объясняет отказ японцев от буддизма тем, что эту религию труднее было соединить с капитализмом, чем синтоизм. Эта гипотеза вполне сочетается с предложенным выше объяснением. В любом случае, невозможно отрицать, что японская элита, поставленная перед необходимостью крупномасштабного заимствования чужого опыта, взяла у Запада только то, что было действительно необходимо. Полезно сравнить это с реформами Петра Великого в Русском царстве. Петр, как известно, действовал без всякого чувства меры, заимствуя у протестантской Европы абсолютно все, в том числе культурные традиции и особенности государственного устройства.
Если бы японцы в ходе революции Мэйдзи ввели у себя представительную демократию, то можно не сомневаться, что, как и в случае с крещением Руси, историки впоследствии заявили бы, что альтернативы этому выбору не было. Последующим поколениям казалось бы само собой разумеющимся, что ни синтоизм, ни император не могут быть совмещены с капитализмом. Но японцы не стали копировать западную демократию, а воспроизвели политическую систему, которая была у них в период становления государства – вернулись к прямому императорскому правлению, де-факто утраченному пятью веками ранее, и к структуре правительства, какой она была в VIII веке. И у них все получилось.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Традиционно авторство этого трактата приписывается легендарному военному стратегу Сунь Цзы (VI – V века до н.э.), однако последние исследования указывают на другого полководца, жившего в IV веке до н.э.
2
В русскоязычной оккультной и масонской литературе его обычно так и называют – «Герметический корпус».
3
Frances Amelia Yates (1899—1981) – английский историк (женщина) культуры Возрождения.
4
Автором этой версии каббалы был раввин Ицхак Лурия, живший в XVI веке.
5
Здесь и далее цитируется русское издание 1999 года, которое является переводом с английского издания: F. Yates. The Rosicrucian Enlightenment. London: Routledge and Kegan Paul, 1972.
6
Интересно, что Ди написал этот труд всего за двенадцать дней, как будто писал под диктовку (Jones 2008).
7
Это посвящение в масоны состоялось в 1641 году. Проводила его ложа Эдинбурга, но происходило оно в английском городе Ньюкасле, который был занят в это время шотландскими пресвитерианцами, восставшими против Карла I и архиепископа Лода. Часть «братьев» эдинбургской ложи образовала в шотландской армии походную ложу, куда и был принят Морэй, выполнявший в этой армии функции начальника квартирмейстерской службы (Jones 2008, Ридли 2008).
8
До Ньютона полагали, что когда тела движутся без видимых причин (в современных терминах – «по инерции»), то их толкают духи.
9
Эти слова Шатобриана цитирует Даниэль Рош в статье Une declinaison des Lumieres (Pour une histoire culturelle / Sous la direction de J.-P. Rioux et J.-F. Sirrielli. Paris, Seuil, 1997. P. 21—49). Русский перевод этой статьи опубликован в сборнике «История продолжается: Изучение восемнадцатого века на пороге двадцать первого» («Университетская книга». Международный Центр по изучению XVIII века. Москва – Санкт-Петербург – Ферней-Вольтер, 2001. С. 253—285).
10
Французские интеллектуалы нуждались в организации, которая была бы официальным лицом философских кружков, своего рода посредником между масонскими ложами и официальной властью. Раньше эту роль во всех европейских странах играла Королевская академия наук, однако во Франции она была упразднена Конвентом в 1793 году. Директория, пришедшая к власти в 1795 году, решила эту проблему, одним из первых своих декретов восстановив Академию в виде Национального института наук и искусств, который с 1806 года стал называться Институтом Франции. Членом этого Института стал и молодой Бонапарт, чем он очень гордился.
11
Составителем этого сборника высказываний Наполеона является граф Лас Каз (Las Cases), доверенный человек великого полководца, проведший вместе с ним последние годы его жизни. Ее полное название: «Maximes et Pensees du Prisonnier de Sainte-Helene. Manuscrit trouve dans les papiers de Las Casas». Книга была впервые опубликована не во Франции, а в Англии, в 1820 году, на английском языке под названием «A manuscript found in the portfolio of the Las Cases, containing maximes and observations of Napoleon, collected during the last two years of his residence at St. Helena. Translated from the French» (London, printed for A. Black).
12
Посвящение провел шведский архитектор Tessin (Jones 2008).
13
Об этом сообщается на масонском сайте www.tvoistroi.ru/text/massoni в начале «специального доклада» «Масоны в России» (Москва, 2008).
14
Ханнах описывает также, как некий джентльмен пригласил его в фойе отеля «Савойя» и предложил тысячу фунтов стерлингов за отказ публиковать книгу (Knight 1984, p. 245).
15
В Объединенной Великой Ложе Англии это высшая степень. По сути дела, она четвертая (первые три: Ученик, Подмастерье, Мастер), но масоны предпочитают называть ее «дополнительной».
16
Повторимся: большинство масонов, оставаясь в пределах трех первых степеней, убеждены, что Всевышний, которому они молятся в ложах, есть либо христианский Бог (если они христиане), либо Аллах (если они мусульмане), либо Иегова (если они иудеи).
17
Об этом, в частности, совершенно определенно пишет Копен-Альбанселли, который сам был посвящен в степень розенкрейцера (18-ю) и был членом Капитула La clemente amitie (Copin-Albancelli 2018, p. 176).



