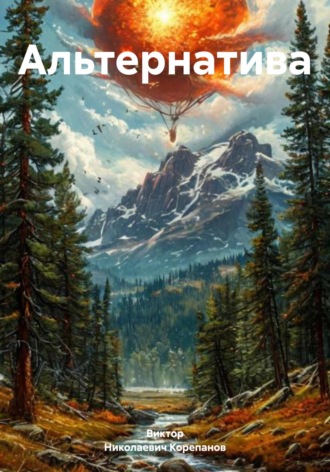
Полная версия
Альтернатива
На следующее утро мы продолжили наше путешествие по долине реки. Тропа, по которой мы шли, постоянно меняла направление, то поднимаясь вверх, то спускаясь к торфяному болоту, а затем снова поднимаясь в гору.
Пройдя очередной склон, мы спустились к руслу реки и увидели небольшой ручей. Мы легко перешли его по камням и продолжили путь по тропе Кулика. В основном она была сильно заросшей и почти не отличалась от обычных вьючных троп, но на некоторых открытых участках было видно, что здесь проходил «зимник» – санная дорога.
Внезапно след зимника упёрся в небольшое болото, и мы пошли в обход. За болотом местность постепенно поднималась, и сухая торная тропа, проложенная среди живописного смешанного леса, вела нас к верховьям реки Макикты. Наш лёгкий путь закончился. На протяжении нескольких километров нам пришлось преодолевать труднопроходимый заболоченный участок, пробираться через грязь и отбиваться от комаров. К двум часам заболоченный участок закончился, и тропа вновь пошла по сухому склону долины, поросшему высоким лесом. Постепенно тропа, ведущая вниз по склону, привела нас к долине реки Хушма. И вот мы достигли долгожданного берега. Песчаные и галечные пляжи, кристально чистая вода и уютные берега – всё это открылось перед нами. За поворотом, чуть выше по течению, мы заметили высокое каменное обнажение – яр. Здесь был брод, и мы, перейдя реку, направились к Пристани.
Солнце уже почти скрылось за вершинами деревьев, и сумерки начали сгущаться. Мы шли по тропе вдоль берега, срезая изгиб реки. Высокий кустарник и крутые берега, покрытые илом после паводка, затрудняли движение с тяжёлыми рюкзаками за спиной. Но цель нашей экспедиции была уже близка. Мы перешли ручей Чургим по большому бревну, и вышли к старой Куликовской бане. Наш маршрут длиной в 80 километров подошёл к концу, и мы оказались у заимки Кулика.
– Наконец-то! – с облегчением выдохнул я, разглядывая ветхие домики заброшенной базы.
– Здесь до сих пор сохранились две избы, построенные во времена первых экспедиций, – пояснила нам, первопроходцам, биолог Виола Тимофеевна, которая не раз посещала эти места. – Вот эта изба – общая, она до сих пор служит пристанищем для исследователей: здесь находится лаборатория и склад. А поменьше – «командирская», в ней жил сам Кулик. Теперь это место превратилось в своеобразный музей.
– Когда я впервые посетил эту базу, – добавил руководитель экспедиции, – домики стояли на открытом пространстве среди причудливо поваленных и обожжённых деревьев. Сейчас же они окружены молодыми зарослями леса. Лишь изредка встречаются искорёженные и обожжённые деревья – остатки свидетелей давней трагедии.
После непродолжительного отдыха Игорь, Алексей и я приступили к установке палаток. Денис с охотниками быстро собрали сухие ветки и развели костёр. Когда вода в котлах, подвешенных над огнём, закипела, женщины быстро приготовили ужин: гречневую кашу с тушёнкой и чай со сгущённым молоком. После утомительного перехода и сытого ужина всех потянуло в сон. Женщинам выделили места в лаборатории, а мы разошлись по палаткам. Охотники и руководитель экспедиции остались сидеть у костра.
* * *
Николай Владимирович не дал нам долго нежиться в постелях. В семь часов утра он поднял всех на ноги и быстро организовал работу. Мне и Виталию поручили носить воду из ручья Чургим в баню. Денис и Владимир отправились за дровами. Александр и Игорь получили задание: сделать удочки и наловить рыбы для ухи. Женщины начали готовиться к полевым работам. После завтрака Николай Владимирович разделил нас на три группы и выдал каждому участнику топографическую карту, разделённую на зоны для исследования. На карте были пронумерованные квадраты, некоторые из которых были заштрихованы косыми линиями. Николай Владимирович объяснил, что не заштрихованные квадраты представляют собой участки поваленного леса, которые ещё не были исследованы после падения метеорита и поставил перед нами задачу – взять образцы проб в этих зонах для дальнейшего анализа и распределил обязанности.
– Завтра утром Владимир, Денис и Ольга Борисовна отправятся собирать образцы для анализа на содержание изотопов и изучения радиационной обстановки. Алексей и Виталий, Виола Тимофеевна, как биолог, займёмся изучение повреждений деревьев, пострадавших от катастрофы. Андрей и Игорь – поиском распылённого космического вещества в муравейниках и сбором геологических образцов. – и добавил, – Оставшиеся будут работать со мной здесь. А сегодня мы топим баню, отдыхаем и выбираем маршруты по карте, чтобы подготовиться завтра к выходу на работу.
Утром мы позавтракали на базе, а обед состоял из продуктов, которые взяли с собой. Ужин же мы готовили из добычи, которую приносили охотники после возвращения. Иногда охотники отправлялись в самые отдалённые места с бригадами, а те, на кого выпадала очередь, готовили еду на базе.
Возвращались мы с работы засветло, чтобы успеть обработать собранные образцы на Пристани. Пробы измельчали, замачивали и затем промывали через специальные сита. Собранные материалы раскладывали по специальным ёмкостям с крышками, маркировали их и указывали координаты. Эта работа была очень утомительной и, на мой взгляд, не приближала нас ни на шаг к разгадке тайны Тунгусского метеорита. Но у меня была одна мысль, которая не давала мне покоя: «С кем мог встретиться отец деда Игнат на озере Чеко во время взрыва метеорита? Если я смогу найти это место, то, возможно, я смогу разгадать тайну Тунгусского метеорита». Ни изматывающая работа днём, ни романтические вечера с песнями под гитару не могли заглушить эту мысль.
Конечно, можно было бы расспросить охотников-эвенков, которые явно были ровесниками деда Игната. Но я хорошо запомнил его напутствие, которое он дал мне перед отъездом.
В конце концов, я обратился к Николаю Владимировичу с просьбой разрешить мне отправиться на озеро Чеко.
– С какой целью? – спросил он и посмотрел мне в глаза так пристально, что я едва не признался в истинной причине своего визита. Пришлось отмазку придумывать на ходу.
– Меня попросил сосед, дед Игнат. Он родом отсюда. Жил в стойбище неподалёку от этого озера вместе с родителями. Сам он уже в преклонном возрасте, – вдохновенно сочинял я историю, не отрывая взгляда от внимательных глаз Николая Владимировича. – Приехать в родные места уже не может, вот и попросил привезти воды из озера Чеко.
– А твой дед Игнат, может быть, был свидетелем тех давних событий?
– Да, в какой-то степени, – ответил я честно. – Он рассказывал, что видел взрыв и был очень напуган. Но ему тогда было всего восемь лет, и он не очень хорошо помнит те события. Позже он никогда не бывал здесь. Шаманы запретили тревожить какого-то бога огня.
– Ну-ну, бога Агды. – Сказал Николай Владимирович, и немного помолчав, добавил. – Я думаю, что старые шаманы были в курсе того, что здесь тогда произошло, раз пугали народ невидимой смертью. Не зря эвенки рассказывали о тех, кто умер после посещения этих мест. Не зря.
Но в тот день он не дал мне определённого ответа.
Прошло ещё три дня, наполненных кропотливой работой по сбору образцов, и вечером, за ужином, руководитель экспедиции объявил: «С завтрашнего утра у нас два выходных дня, мы идём в баню и вечером танцуем».
Когда все разошлись по своим делам, он подошёл ко мне и сказал: «Заходи ко мне через час».
С большим нетерпением я ожидал назначенного времени и наконец, вошёл в «командирскую» избушку. Николай Владимирович сидел на самодельном табурете у стола, на котором лежала топографическая карта.
– Вот твой маршрут, – сказал он, указывая на голубое пятнышко на карте. – К озеру ведут две тропы. Одна, старая охотничья, проходит по подножию горы Вюльфинг вокруг Северного торфяника и дальше через ручей Чеко. Вторая тропа отходит влево от тропы, ведущей на гору Фаррингтон. Я рекомендую тебе второй вариант – он короче. Пойдёшь один, охотников в попутчики не дам. В этом районе нет крупных хищников, а мелкого зверья, почему-то, мало. Надеюсь, двух дней тебе хватит на исследования?
– Я обернусь за один день! – радостно воскликнул я, и как оказалось, слишком поспешно.
Николай Владимирович лишь усмехнулся в ответ и сказал: «Не выходи рано утром. Вся одежда промокнет от росы».
Утром, в десять часов, я собрал в рюкзак всё необходимое. Ольга Борисовна, не принимая моего отказа, дала мне еды на два дня, напомнив народную мудрость: «Идёшь в лес на день, бери еды на два». Я до сих пор благодарен ей за это.
Погода была на моей стороне. Было не слишком жарко. От нашего лагеря до горы Фарингтон примерно три километра, и я быстро их преодолел. Оттуда по тропе я спустился в низину, к небольшому болоту, и прошёл по восточным склонам небольших холмов через Хойский торфяник. В итоге я вышел к ручью Хой. С трудом преодолел переправу через ручей, отмеченную шестами, и пошёл по тропе через хвойный лес. По пути я заметил деревья с метками старых затесов и следы зимней дороги, проложенной охотниками. До озера Чеко я добрался за три часа. Мог бы и раньше, но немного поплутал в хитросплетении тропинок. Озеро расположено в котловине и имеет почти круглую форму. С моей стороны пологий берег порос густыми кустами и небольшими деревьями. Противоположный берег с крутым склоном покрыт таёжным лесом с буреломом до основания хребта, на который я хотел подняться. Но осуществить своё желание не удалось из-за отсутствия информации о наличии охотничьих троп. Как говорится, «близко локоть, да не укусишь». Я провёл некоторое время у озера, пообедал. Затем наполнил фляжку водой, чтобы оправдать свой поступок перед начальником, и отправился в обратный путь.
Оглянувшись на недоступный хребет, я сказал себе: «Придётся обратиться за помощью к охотникам-эвенкам».
Возвращаясь по тропе, я сбился с пути. Не могу понять, как это произошло. Я решил вернуться к озеру, чтобы продолжить путь, но только ухудшил ситуацию.
Я решил ориентироваться по компасу, но в таёжном лесу это оказалось непросто. Держать направление было очень сложно. Я постоянно натыкался на поваленные деревья и сбивался с пути. Я останавливался, снова устанавливал направление по компасу и опять терял его. В итоге за пару часов я прошёл всего три километра, сильно устал и проголодался, особенно хотелось пить. Я заметил, что под ногами извивается русло пересохшего ручья и понял, что вода должна быть внизу, под камнями, покрытыми мхом и растительностью. Снял рюкзак, положил его на поваленное дерево и пошёл искать воду. После долгих и бесплодных поисков воды, которые заняли более часа, я вынужден был остановиться на ночлег. К моему удивлению, я обнаружил, что от усталости и напряжения не могу вспомнить, где оставил свой рюкзак. В результате я остался без воды, пищи и спального мешка. На мне была лишь промокшая от пота рубашка, а на груди висела небольшая сумка, в которой находились спички и кусочек бересты – предмет, который я всегда носил с собой в походах по привычке.
Я начал лихорадочно искать свой рюкзак. В лесу уже сгустились сумерки, и лишь бледный свет луны едва пробивался сквозь густые кроны деревьев. Я осторожно пробирался между кустами, почти на ощупь обходя стволы деревьев. Мои поиски продолжались уже около часа, но я так и не смог найти свой рюкзак. Стало совсем темно, и я почувствовал, как во мне нарастает паника. Я приказал себе прекратить поиски и успокоиться. Придётся провести ночь в тайге.
То, что представлялось несложным при свете дня и с помощью топора, оказалось непосильной задачей в темноте и без каких-либо инструментов. Я с трудом собрал валежник и развёл костёр в попытке заснуть, но сон так и не пришёл. Я лежал на камнях, покрытых мхом, прижавшись к костру, но жар шёл только от огня, и мой бок медленно поджаривался. Снизу от болота и сверху я слегка подмёрз – ночи в Эвенкии были прохладными.
С наступлением утра я продолжил свой путь в заданном направлении, но вскоре сбился с маршрута и вновь утратил ориентиры. Продвижение по тайге представляло собой крайне сложное испытание. Густые заросли были столь плотными, что я едва мог различить очертания упавших деревьев, которые зачастую скрывались под сплошным покровом мха. Несколько раз я спотыкался об эти препятствия и падал, но, к счастью, каждый раз мне удавалось удачно подняться и продолжить движение по заданному курсу. По моим расчётам, я должен был выйти к Хушме, но её всё не было видно. Внезапно лес стал реже, и я вышел на залитую солнцем поляну, на которой возвышалась небольшая возвышенность с маленьким охотничьим домиком. Судя по его внешнему виду, бойкая сорная трава росла на его крыше, он был построен давно. Собрав последние силы, я подошёл к домику и постучал в дверь. Затем постучал ещё раз. Тишина. Я толкнул дверь и вошёл внутрь. В помещении царил полумрак, вызванный скудным освещением, проникавшим сквозь небольшое окно. Когда мои глаза привыкли к скудному свету, я огляделся вокруг. Несмотря на скромное убранство, внутри хижины царили чистота и порядок. Я опустился на скамью, стоявшую у стола, и вытянул уставшие ноги. Проснулся я от весёлого потрескивания огня в маленьком очаге. Сбросив с себя тяжёлую медвежью шкуру, служившую мне одеялом, я сел на лежанке, недоумевая, как я здесь оказался. Дверь скрипнула, и в комнату вошёл седовласый старик с охапкой дров. Увидев, что я проснулся, он приветливо улыбнулся и произнёс: «Вот и хорошо, проспал весь день, теперь можно и чайку попить».
Чувствуя себя виноватым за то, что без приглашения вторгся в чужой дом, я попытался было извиниться, но хозяин замахал на меня руками.
– Никаких извинений! – Воскликнул он. – Ты мой гость! Присаживайся к столу! А завтра провожу тебя до твоих друзей.
Меня не пришлось долго упрашивать. После долгой прогулки по тайге у меня разыгрался аппетит, а из чайника, стоявшего на столе, по комнате разливался аромат смородинового листа. Всё это вместе – запах смородины, тепло, пляшущие языки пламени в печке и приветливость хозяина – располагало к душевной беседе. Именно на неё я и надеялся, желая узнать что-то новое о тунгусском явлении. Если старик живёт здесь давно, а на вид ему больше восьмидесяти лет, то он должен знать о событиях 1908 года.
Чтобы направить разговор в нужное русло, я решил взять инициативу в свои руки. Наслаждаясь вкусом зелёного чая, я задал вопрос: «Давно ли вы здесь обитаете? Не наскучило ли вам здесь?»
– Какая же здесь скука, – ответил он, отпивая чай из блюдца. – С должности егеря меня еще не сняли, а работы здесь непочатый край. А мёд-то? Мёд бери! Не стесняйся!»
Дома мёд для меня был обыденным продуктом, ведь мой дедушка был большим любителем пчеловодства и часто помогал ему на пасеке. Но такого мёда я ещё не пробовал. От него пахло загадочными лесными цветами и летним зноем, и в моей памяти всплыла картина из детства.
Меня впервые привезли из города к дедушке на пасеку. Я бегу босиком по высокой траве, усыпанной яркими цветами. От аромата кружится голова. А я бегу, раскинув руки, и жадно ловлю поднятым вверх лицом тёплые лучи солнца. Воспоминание было таким ярким и манящим, что мне стало грустно. Мне невыносимо захотелось вернуться в то беззаботное прошлое.
– Вспомнилось детство? – Вдруг спросил меня старик.
– Да, – с грустью ответил я, – и мне так захотелось вернуться обратно в детство, но, как сказал поэт Новиков:
Никогда
Ничего не вернуть,
Как на солнце не вытравить пятна
И в обратный отправившись, путь,
Все равно не вернуться обратно.
Эта истина очень проста
И она, точно смерть, непреложна.
Можно в те же вернуться места,
Но вернуться назад
Невозможно…
– Как? – спросил дед дрогнувшим голосом.
Я повторил, не понимая, что происходит.
– Но вернуться назад невозможно, – прошептал он.
Дрогнувшей рукой он поставил на стол блюдце с недопитым чаем и встал. Как слепой, спотыкаясь о предметы, он подошёл к окну и долго всматривался в темноту, словно искал там ответ. Затем он медленно повернулся ко мне. Глаза его потускнели, на лице резче проступила сеть морщин. Казалось, даже его седая борода потеряла свой серебристый блеск.
– Ты растревожил мою старую рану, – глухо произнёс он. – Это моя судьба. От прошлого не скрыться.
Он нервно усмехнулся: «А где для меня прошлое? Там, где я жил? Или здесь, где я живу?»
– Как это понять? – Удивился я.
– Это очень длинная история! – С горечью воскликнул он. – Устраивайся как тебе удобнее, наберись терпения, и я расскажу тебе о том, что со мной произошло. До сих пор я не хотел делиться с кем-либо сведениями, которые могли бы быть опасными для меня. Но теперь я решил рассказать тебе эту историю. Я хочу рассказать о событиях, которые пережил, беспристрастно и без искажений.
Голос старика был мягким и приятным, с низким, обволакивающим тембром. Но меня поразило, что в его голосе звучала усталость, возможно, накопившаяся за долгую жизнь. Я провёл ночь, слушая рассказ хозяина заимки, и передо мной разворачивалась цепь событий, которые, по его словам, привели нас к этой встрече.
Рассказчик не пытался убедить меня в правдивости своего повествования. Он просто излагал факты, опуская детали, такие как даты, фамилии учёных и своих товарищей. Он не пытался предсказывать будущее. Он как будто приглашал меня разделить с ним его горе и одиночество.
– Прошло столько лет, а я всё ещё воспринимаю всё пережитое как странный сон, – начал свой рассказ хозяин заимки. – Я уже несколько раз ловил себя на мысли, что достаточно лишь небольшого усилия воли, чтобы сбросить с себя это наваждение. И часто спрашивал себя: «А было ли это? Были ли мои приключения реальностью?»
Мне показалось, что я ослышался, когда увидел старца. Но он смотрел на огонь с таким отрешённым видом, что я понял: он меня не слышит.
– Да, да, – сказал он, опережая мой вопрос. – Тебе не показалось. Эти события произошли… в далёком будущем, но не в вашем мире. Меня, как и многих других выпускников астробиологического факультета АУК, пригласили на собеседование в просторный кабинет руководителя международного космоцентра. Руководитель обратился к нам с краткой, но содержательной речью: «Благодаря новой теории о происхождении вселенной и звёзд, астрофизики обнаружили систему из вихревых каналов, по которым происходит энергообмен между звёздами. Скорость потоков первичной материи по этим каналам в десятки миллионов раз превосходит скорость света. Таким образом, перед нами открылась поистине фантастическая возможность для исполнения мечты человечества – достичь звёзд. Возник вопрос: кто должен первым отправиться к звёздам – человек или зонды? В ходе дискуссий на совещаниях высказывались различные точки зрения, но в конечном итоге возобладал здравый смысл. Многолетний опыт исследования планет с помощью роботов выявил их неэффективность. Десятилетиями электронные устройства бороздили поверхность планет Солнечной системы, отправляя на Землю фотографии, которые вызывали споры, поскольку каждый видел на них то, что хотел увидеть. Однако только первые шаги человека по «новым землям» расставили всё по своим местам.
Предстоящий полёт к звёздам потребовал создания принципиально нового вида транспорта и оборудования. Лучшие умы человечества приступили к работе над уникальным проектом – вихрелётом, в котором они использовали весь накопленный человечеством опыт исследования космоса. Этот проект объединил в себе последние достижения инженерной мысли, новейшие открытия в области материаловедения, физики и других наук. Совместными усилиями мы создали первую партию вихрелётов-звездолётов. Вам, астробиологам не нужно объяснять, насколько важны эти исследовательские миссии. Вы – единственные специалисты, которые способны выполнить эту работу. Ваша задача заключается в том, чтобы установить наличие жизни на открытых планетах, а также определить, существует ли там разумная жизнь и в какой степени она способна к взаимодействию.
Все физические характеристики планет будут определяться с помощью электронных приборов.
Должен сразу предупредить, что после старта каждый из вас окажется в полной изоляции, наедине с бескрайним космосом. Хотя современные технологии свели риски к минимуму, они всё же существуют. Мы не будем настаивать на вашем участии в этой миссии – выбор остаётся за вами.
Я мог бы отказаться, но жажда новых впечатлений всё ещё жила во мне, и я без колебаний принял его предложение.
Несколько минут мы провели в безмолвии. Я пристально смотрел на старца, и меня одолевали смешанные чувства: я верил ему и в то же время сомневался. А он сидел, погружённый в свои размышления, поглаживая свою седую бороду, и даже не стремился понять, какое впечатление произвело на меня начало его повествования.
В этот момент я не могу точно сказать, о чём он думал. Внезапно он сменил тему, словно продолжая мысль, которая, по-видимому, давно его занимала.
– Если бы я выбрал другую специализацию, всё могло бы сложиться иначе», – вздохнул он. – Но нет! Во время летних каникул я отправился в высокогорную обсерваторию на экскурсию. Там мне показали подледную растительность – настоящую природную теплицу. Я впервые увидел, как под метровым слоем льда на площади в 400 квадратных метров растут и цветут растения альпийской зоны. Их удивительная жизнеспособность поразила меня, и я решил посвятить свою жизнь космической биологии.
Так я ступил на стезю грядущих странствий, хотя мог бы остаться в тиши академических занятий. Где я только не побывал! Проще перечислить места, где я не был. О Земле я уже и не говорю. Я осознал, что мне тесно в рамках Солнечной системы. И когда мне предложили принять участие в первой звёздной экспедиции, я без колебаний согласился. Мне казалось, что мне невероятно повезло. Желающих было множество. Но в основу отбора разведчиков легли абсолютное здоровье, физическая сила, выносливость, знание реактивной и иной техники, а также глубокие познания в области биологии. Выбор пал на выпускников нашего факультета, которые соответствовали всем требованиям к космонавтам, а также обладали знаниями в области астробиологии.
Прежде чем стать космическим путешественником, я прошёл ряд специализированных тренировок. Не знаю, как другие, но я не испытывал значительных затруднений, поскольку уже имел опыт длительных космических полётов. Однако даже меня, повидавшего разнообразные типы ракет, внешний облик вихрелёта привёл в замешательство. Передо мной возвышалось величественное сооружение серебристого цвета, почти столь же протяжённое, как ракета «Земля – Луна», но превосходящее её по диаметру почти вдвое. По своей форме оно напоминало грушу с правильным полусферическим носом, оплетённую витками труб.
Устройство этого чуда объяснял сам конструктор. Это была одна из самых увлекательных лекций, которые мне когда-либо приходилось слушать. У лектора не было ни плана, ни конспекта, но, по-видимому, вдохновение, знания и гордость за свой проект с лихвой компенсировали ему это. Он свободно переходил от одного узла сложной конструкции к другому, не забывая о деталях. Особенно долго он рассказывал нам об устройстве и принципе работы двигателя – сердца космического корабля, когда мы спустились через открытый кормовой люк и по крутой металлической лестнице мы в двигательный отсек корабля. Он провёл нас через помещение, где было нагромождение различной аппаратуры, по узкому проходу, который имел длину около десяти метров. Когда мы шли по нему, я почувствовал сильную дрожь под ногами.
Конструктор, повернувшись к нам, объяснил, что под нами размещен ядерный реактор звездолета и показал округлые люки, расположенные на стенах коридора. Они, закрывали окна с защитными свинцовыми стеклами, служащие для осмотра ядерного оборудования. И кратко пояснил нам о предназначении реактора в полетах к звездам.
Будучи далёким от физики, я не смог вникнуть в суть его объяснений. Однако я уловил одну аналогию: движение от звезды к звезде можно сравнить с эффектом квантовой механики, когда электрон способен преодолеть потенциальный барьер, если его общая энергия меньше высоты этого барьера. Так и космический корабль, защищённый вихревым магнитным полем, проникает в вихревой тоннель и с огромной скоростью устремляется от звезды к звезде. Достигнув цели, он выходит из тоннеля и занимает установленную орбиту вокруг звезды. Компьютерная система определяет местоположение нужной планеты. Затем координатор корабля приступает к сбору необходимых данных с помощью бортовых датчиков. Анализируются такие параметры, как температура на планете, содержание кислорода и других газов. После получения данных разрешается спуск исследовательского модуля на планету.
Так под его лекцию мы ознакомились с нахождение челнока для посадки на планеты, с устройством кибернетической универсальной лаборатории с методами разнообразных исследований. С камерой хранения зондов предназначенных для исследования физических и химических параметров планет.
При осмотре внутреннего устройства космического корабля меня одновременно удивила и разочаровала главная рубка корабля. Это была просто сферическая капсула, в которой располагалось спальное место. Круглое помещение зала было заполнено огромным монитором и небольшим пультом с рабочим местом оператора, на котором было несколько сигнальных лампочек, кнопок и переключателей.

