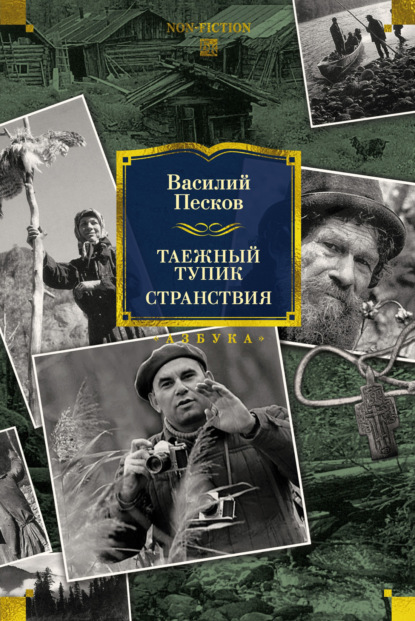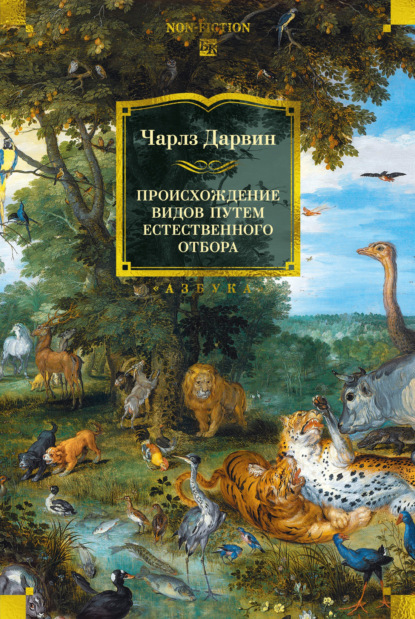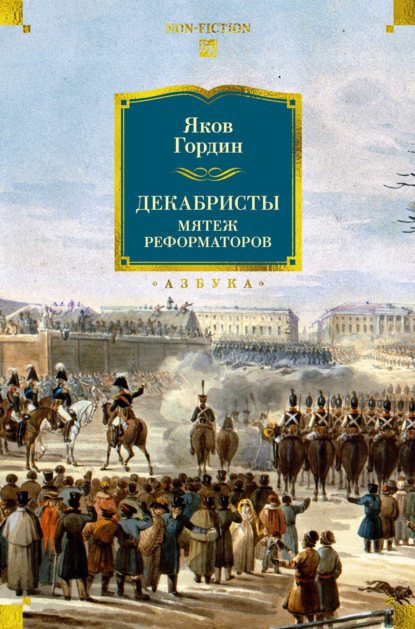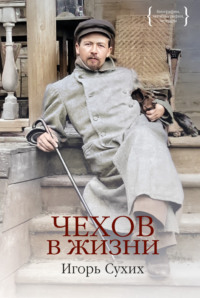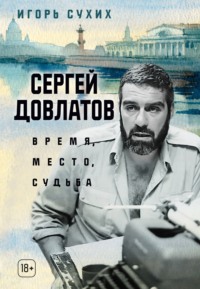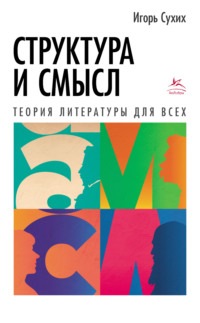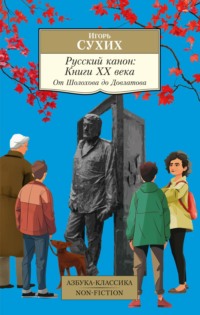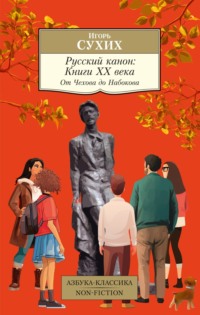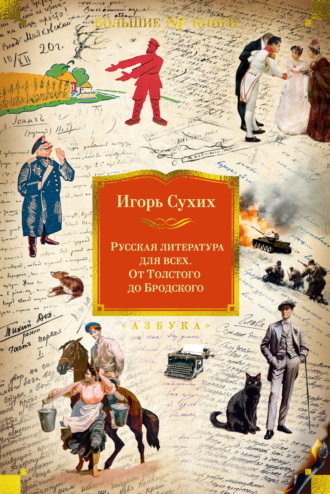
Полная версия
Русская литература для всех. От Толстого до Бродского
Сатиру Щедрина всегда считали направленной против русского самодержавия. Но она пережила императорскую Россию. Тоталитарные государства XX века, кажется, откровенно подражали истории города Глупова. «Жизнь, находящаяся под игом безумия» никак не может окончиться.
Между тем «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта тоже были когда-то злободневной политической сатирой. Сегодня мы читаем их по-иному, восхищаясь фантазией автора, фабульной изобретательностью, афористичностью текста.
Может быть, и щедринскую книгу когда-нибудь удастся прочесть как страшную сказку о том, чего не было?
Николай Семенович Лесков
(1831–1895)
Судьба писателя: против течения
Судьба Н. С. Лескова – еще один драматический сюжет в богатой на них истории русской литературы. Однако его особенность в том, что главным конфликтом в жизни Лескова было не столкновение с государством, а отношения с писательским и культурным сообществом.
Лесков родился 4 (16) февраля 1831 года в небольшом селе Орловской губернии – в центре России. Его близкими соседями, земляками оказываются И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой.
Отец Лескова, небогатый дворянин, выходец из духовенства, умер в 1843 году. После чего юноше пришлось бросить гимназию и поступить на службу. Вначале Лесков служит мелким канцеляристом в Орле, потом переводится в Киев. Став в конце концов агентом по управлению имениями двух богатых помещиков, Лесков изъездил почти всю Россию, приобрел огромный запас впечатлений, который определил его литературное творчество.
«Уже стариком, на полные восхищения и удивления вопросы – откуда у него такое неистощимое знание своей страны, такое богатство наблюдений и впечатлений – писатель, немного откидывая голову и как бы озирая глубь минувшего, слегка постукивая концами пальцев в лоб, медленно отвечал: „Все из этого сундука… За три года моих разъездов по России в него складывался багаж, которого хватило на всю жизнь и которого не наберешь на Невском и в петербургских ресторанах и канцеляриях“» (А. Н. Лесков. «Жизнь Николая Лескова»).
Однако начал литературную деятельность Лесков как раз в Петербурге, когда ему было уже около тридцати лет. Журналистская работа вскоре привела к катастрофе. Этот драматичный эпизод биографии писателя через много лет с большим сочувствием пересказал М. Горький:
«Литературная деятельность Лескова началась тяжелой для него драмой, которая могла бы и не разыгрываться, если б русские интеллигентные люди умели относиться друг к другу более внимательно и бережно… В первый же год своей работы в Петербурге Лесков получил удар в сердце, совершенно не заслуженный им.
Летом 1862 г. в Петербурге возникли подозрительные частые пожары, кто-то пустил слух, что это от поджогов, а поджигают студенты. Лесков напечатал в газете статью, требуя, чтобы власть или представила ясные доказательства участия студентов в поджогах, или немедля и решительно опровергла клевету на них. Легкомысленные люди истолковали статью так, что будто бы именно Лесков приписывает поджоги буйному студенчеству. Он неоднократно опровергал это злостное недоразумение, но ему не поверили» (М. Горький. «Н. С. Лесков», 1923).
Лесков был упрямым и безудержным человеком. Он не хотел отступать, признаваться в ошибках, а, напротив, вступил в борьбу с господствующим мнением. Он пишет и публикует два так называемых антинигилистических романа – «Некуда» (1864) и «На ножах» (1870), в которых фельетонно, иронически изображает героев времени, «новых людей», нигилистов, совсем по-иному представленных в романах И. С. Тургенева и Н. Г. Чернышевского.
После этого разрыв Лескова (романы он публиковал под псевдонимом М. Стебницкий) с либеральной литературной средой стал окончательным. Вершиной отлучения, остракизма стало суждение ведущего критика эпохи – Д. И. Писарева: «Меня очень интересуют два вопроса: 1) Найдется ли теперь в России, кроме „Русского вестника“, хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь, выходящее из-под пера Стебницкого и подписанное его фамилией? 2) Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами Стебницкого?» (Д. И. Писарев. «Прогулка по садам российской словесности», 1865).
Несколько лет после этого разрыва Лесков существует в литературе почти в одиночестве: печатается в малоавторитетных изданиях (за исключением упомянутого Писаревым консервативного «Русского вестника»), избегает литературных кружков, замыкаясь в кругу семьи. В стесненных обстоятельствах он обращается за помощью в Литературный фонд – и получает отказ.
Но даже в этих условиях писатель сохраняет детскость, озорство в отношениях с людьми, которые порой приносят ему новые неприятности. Однажды, сидя в кабинете приятеля, Лесков слышит о визите знакомого писателя и вдруг прячется под письменный стол со словами: «Он как войдет, так сейчас же начнет ругать меня». Так и происходит. Довольный Лесков с хохотом появляется, но посетитель не смеется, а смертельно обижается. И эти отношения оказались испорченными навсегда.
Но в осмыслении своего пути Лесков был серьезен. Уже в конце жизни, прочитав статью о своем творческом пути под заглавием «Больной талант» (1891), он поблагодарил критика и сразу же предложил свою версию: «Говоря об авторе, вы забыли его время и то, что он есть дитя своего времени… Я бы, писавши о себе, назвал статью не больной талант, а трудный рост».
На этом трудном пути Лесков создал свою, совершенно оригинальную поэтику. После антинигилистических романов он практически не обращается к большому эпическому жанру. Привычными для Лескова становятся малые жанры: «рассказы кстати», «святочные рассказы» (Лесков издал сборники под такими заглавиями), истинные события, были, картинки с натуры (жанровые подзаголовки произведений), очерки, легенды, притчи, в совокупности создающие картину русского провинциального быта, жизни купцов, священников, офицеров, небогатых дворян, мужиков, мастеровых.
Главным инструментом Лескова-писателя становится сказ, повествование от лица героя со всеми причудливыми особенностями, неправильностями устной речи, создающими характер далекого от автора, не совпадающего с ним персонажа. Такого героя обычно называют рассказчиком. Его характеризует прежде всего не фабула, события, а сама манера речи, своеобразие рассказа о событиях.
«Человек живет словами, и надо знать, в какие моменты психологической жизни у кого из нас какие найдутся слова. Изучить речи каждого представителя многочисленных социальных и личных положений довольно трудно. Вот этот народный, вульгарный и вычурный язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош», – рассказывал писатель собеседнику (А. И. Фаресову).
Лесков – самый «филологический» из значительных русских писателей ХIХ века. «Язык он знал чудесно, до фокусов», – утверждал Л. Н. Толстой. Литературовед Б. М. Эйхенбаум называл лесковскую позицию художественным филологизмом и артистизмом.
В сказовой манере написаны «Запечатленный ангел» (1871), знаменитая «цеховая легенда» «Левша» (1881) и многие другие известные произведения Лескова.
Однако речь многочисленных лесковских персонажей не просто подслушана, но художественно стилизована, создана. Для Лескова характерны не нормативность, чувство меры, а, напротив, концентрация, сгущение характерных речевых особенностей избранной профессии или социальной группы (поэтому Б. М. Эйхенбаум считал его «чрезмерным писателем»).
В сказке «Час воли Божией» (1890) предложен столь насыщенный, богатый редкими словечками стиль повествования, с каким никакой реальный сказитель сравниться не мог: «Разлюляй-измигул, гулевой мужичонко, шершавенький, повсегда он одет в зипунишечке в пестреньком – один рукав кармазинный, а другой лазоревый, на голове у него суконный колпак с бубенчиком, штаны пестрядинные, а подпоясочка лыковая, – не жнет он и не сеет, а живет не знамо чем и питает еще хозяйку красивую да шестерку детей, – на которого ни глянь, сразу знать, что все – Разлюляевичи. Ходит он повсюду, болтается, и никто разобрать не может: видит ли он добро в той темноте, что была до Гороха-царя, или светится ему лучшее в тех смыслах, какие открылися людям после время Горохова».
Точно так же в «Левше» Лесков интенсифицирует прием народной этимологии, делает его литературной игрой, осмысляя по ее законам не только варваризмы, но и исконно русские слова. Фельетон в «Левше» превращается в клевотон, барометр – в буреметр, микроскоп – в мелкоскоп, Аполлон Бельведерский – в Аболона полведерского, но одновременно двухместная карета – в двухсестную, находящаяся напротив аптека – в противную аптеку, частные разговоры между собой – в междуусобные разговоры.
Интересы писателя были направлены и в другую сторону, он пересказывал библейские и исторические сюжеты, столь же виртуозно, как диалекты, воспроизводя особенности старинного высокого стиля. Лесков утверждал, что некоторые его произведения написаны «музыкальным речитативом», прозой, по ритмическим признакам похожей на стихи.
Точную характеристику стиля Лескова, его своеобразия на фоне иных подходов к языку дал критик, современник писателя: «Неправильная, пестрая, антикварная манера делает книги Лескова музеем всевозможных говоров; вы слышите в них язык деревенских попов, чиновников, начетчиков, язык богослужебный, сказочный, летописный, тяжебный, салонный, – тут встречаются все стихии, все элементы океана русской речи. Язык этот, пока к нему не привыкнешь, кажется искусственным и пестрым… Стиль его неправилен, но богат. В нем нет строгой простоты стиля Лермонтова и Пушкина, у которых язык наш принял истинно классические, вечные формы, в нем нет изящной и утонченной простоты гончаровского и тургеневского письма, нет задушевной житейской простоты языка Толстого, – язык Лескова редко прост; в большинстве случаев он сложен, но в своем роде красив и пышен» (М. О. Меньшиков. «Художественная проповедь», 1894).
Однако, оставаясь верным принципам языковой и жизненной игры, Лесков в своем трудном росте изменялся, рос духовно, двигаясь против течения уже в ином направлении.
Его книгу «Мелочи архиерейской жизни» (1878) запрещает цензура за нежелательное изображение быта духовенства, и собрание сочинений писателя выходит без шестого тома. Лескову оказываются близки религиозные искания Толстого, вступившего в конфликт с официальной церковью и проповедующего свой вариант христианства. Он даже – по примеру Толстого – становится вегетарианцем.
После знакомства с писателем Толстой написал другу-последователю: «Был Лесков. Какой умный и оригинальный человек!» (В. Г. Черткову, 25 апреля 1887 г.). А еще через несколько лет собеседник запишет слова автора «Войны и мира»: «Лесков – писатель будущего, и его жизнь в литературе глубоко поучительна».
Жизнь писателя окончилась 21 февраля (5 марта) 1895 года в Санкт-Петербурге. Он оставил вместо завещания «Мою посмертную просьбу», в которой просил не говорить над его могилой речей, позаботиться о девочке-сироте, которую он опекал. Последний, двенадцатый, пункт просьбы был обращен уже не к близким, а ко всем остающимся на земле: «Прошу затем прощения у всех, кого я оскорбил, огорчил или кому был неприятен, и сам от всей души прощаю всем все, что ими сделано мне неприятного, по недостатку любви или по убеждению, что оказанием вреда мне была приносима служба Богу, в коего и я верю и которому я старался служить в духе и истине, поборая в себе страх перед людьми и укрепляя себя любовью по слову Господа моего Иисуса Христа».
Как и многие русские писатели, Лесков был похоронен на Волковом кладбище в Петербурге. Теперь эта его часть называется Литераторскими мостками.
Основные даты жизни и творчества
1831, 4 (16) февраля – родился в селе Горохово Орловской губернии.
1841–1846 – учеба в Орловской гимназии (не окончил).
1847–1860 – государственная и частная служба в Орле и Киеве, многочисленные поездки по России.
1861 – переезд в Петербург, начало систематической литературной деятельности.
1862 – статья о петербургских пожарах, осуждение Лескова в общественных и литературных кругах.
1873 – написаны повести «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник».
1881 – написан «Левша».
1887 – знакомство с Л. Н. Толстым.
1889 – цензурное запрещение шестого тома собрания сочинений Лескова, в который входили «Очерки архиерейской жизни».
1895, 21 февраля (5 марта) – умер в Петербурге.
«Очарованный странник»: странный праведник
Повесть «Очарованный странник» (1873) входит в большой лесковский цикл рассказов о праведниках, часть которых в конце жизни была включена в сборник «Праведники».
В предисловии к рассказу «Однодум» (1880) Лесков объяснял: «…пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число трех праведных, без которых „несть граду стояния“».
Героями этого цикла становятся простые и самоотверженные люди: спасающий тонущего человека и для этого оставивший пост солдат («Человек на часах»), заботящийся о благе родины забавный тульский мастеровой («Левша), протопоп Туберозов («Соборяне»).
Иван Северьянович Флягин – одна из самых необычных, странных, колоритных фигур в ряду лесковских праведников.
В «Очарованном страннике» писатель использует прием рассказа в рассказе. На пароходе, плывущем по Ладожскому озеру к острову Валаам (там находится известный монастырь), неназванные пассажиры (рассказ начинается от коллективного «мы») встречают послушника, «доброго русского богатыря, напоминающего дедушку Илью Муромца».
Пассажиров заинтересовали его слова: «Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес. 〈…〉 Всю жизнь свою я погибал и никак не мог погибнуть» (глава первая).
Далее происходит переход к рассказу в рассказе: «Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался…»
Большая часть «Очарованного странника» представляет повествование героя, разбитое на короткие главки и сопровождаемое редкими репликами слушателей.
Флягин оказывается странным праведником. В его жизни тесно соприкасаются грех и чистота, преступление и подвиг. Он неистово, страстно относится к жизни, не жалея ни других, ни себя.
Когда-то в юности его злая шутка становится причиной гибели простодушного монашка. Погибший является к нему в видении и предсказывает судьбу Флягина: «А вот, – говорит, – тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы» (глава вторая).
С этим предсказанием-проклятием герой и плывет по реке жизни. Вскоре после невольного убийства он спас хозяина-князя, потом, впав в немилость, был жестоко высечен по его приказу за злую шутку (он отрубил хвост хозяйской кошке, душившей его голубей) и собрался покончить жизнь самоубийством. Но теперь его спасает цыган-лошадник, и Флягин вместе с ним бежит от графа, украв хозяйских лошадей. Так начинается история скитаний «черноземного Телемака» (таково раннее заглавие повести: Телемак – сын Одиссея, много лет разыскивавший отца).
История Ивана Северьяновича Флягина напоминает сюжет плутовского романа. Герой нянчит ребенка и до смерти запарывает соперника-татарина. Он несколько лет находится в татарском плену, потом оказывается в астраханском остроге и возвращается в родной город.
Он до смерти любит лошадей и прекрасно разбирается в них. И столь же безудержно он влюбляется в цыганку Грушу, тратит на эту любовь несколько лет жизни, но в конце концов убивает любимую, спровоцировавшую его на это страшное решение.
„Не убьешь, – говорит, – меня, я всем вам в отместку стану самою стыдной женщиной“.
Я весь задрожал, и велел ей молиться, и колоть ее не стал, а взял да так с крутизны в реку и спихнул…
Все мы, выслушав это последнее признание Ивана Северьяныча, впервые заподозрили справедливость его рассказа и хранили довольно долгое молчание, но наконец кто-то откашлянулся и молвил:
– Она утонула?..
– Залилась, – отвечал Иван Северьяныч» (глава восемнадцатая).
Но и на этом приключения героя не оканчиваются. Он успевает еще побывать солдатом-рекрутом под чужой фамилий и артистом в петербургском балагане.
Лишь после этого, пережив множество приключений, испытаний, страданий, герой приходит в монастырь.
«– Полюбили вы монастырскую жизнь?
– Очень-с; очень полюбил, – здесь покойно, все равно как в полку, много сходственного, все тебе готовое: и одет, и обут, и накормлен, и начальство смотрит и повиновения спрашивает».
Из рассказа героя выясняется, что в монастыре он тоже не спасает душу постоянными молитвами, а занимается вполне земными делами, связанными с прежними увлечениями:
«– Позвольте, – говорим, – так это что же такое, выходит, вы и в монастыре остались… при лошадях?
– Постоянно-с в кучерах. В монастыре этого моего звания офицерского не опасаются, потому что я хотя и в малом еще постриге, а все же монах и со всеми сравнен» (глава девятнадцатая).
Однако и монастырь в жизни этого кучера-монаха, странного праведника оказывается не последней пристанью. После окончания истории слушатели узнают о новом желании Флягина.
«– Не могу знать-с: усиливаюсь, молчу, а дух одолевает.
– Что же он?
– Все свое внушает: „ополчайся“.
– Разве вы и сами собираетесь идти воевать?
– А как же-с? Непременно-с: мне за народ очень помереть хочется.
– Как же вы: в клобуке и в рясе пойдете воевать?
– Нет-с; я тогда клобучок сниму, а амуничку надену» (глава двадцатая).
После заглавия определение очарованный странник появляется в повести всего дважды, в двух последних главах повести, причем в последнем, заключительном абзаце: «Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше расспрашивать? Повествования своего минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой души, а провещания его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных и только иногда открывающего их младенцам».
Это точно найденное определение образует композиционное кольцо. Герой зачарован, очарован живой жизнью и совсем далек от праведничества в привычном, религиозном духе. Но все его поступки (а ведь он совершил целых три, пусть невольных, убийства) объясняются свойствами простой души, безудержной в страстях, но в конечном счете стремящейся к общему благу. «Мне за народ очень помереть хочется». Автор оставляет героя на пороге новых испытаний, в руках Бога, «до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных».
Герои Лескова – необычные праведники. Они не идеальны, но привлекательны. В отличие от древнерусских житийных повествований, герои которых жили ради служения Богу, в их душе кипят сильные страсти и преобладает не аскетизм, а очарование жизнью.
Николай Алексеевич Некрасов
(1821–1877)
Суровая школа: борьба за жизнь
Почти вся русская литература XIX века родилась, как мы уже видели, в дворянской усадьбе. Но в мире вишневых садов и темных аллей жизнь тоже складывалась по-разному. Позднее детство вспоминалось русскими писателями (как и русскими людьми вообще) то как идиллия (Толстой), то как тяжелая драма, память о которой мучит всю последующую жизнь (Тургенев, Салтыков-Щедрин).
Начало некрасовской жизни напоминает о детстве Тургенева, но с переменой отцовской и материнской ролей и более суровыми условиями воспитания.
Николай Алексеевич Некрасов родился 28 ноября (10 декабря) 1821 года в маленькой деревеньке в Подольской губернии (на территории нынешней Украины). Но когда ему было три года, семья переехала в родовое имение Грешнево в Ярославской губернии. Ее поэт и считал своей подлинной родиной.
Отец Некрасова, Алексей Сергеевич, военный, вскоре после рождения сына вышел в отставку и начал обычную жизнь помещика средней руки – с охотой, картами, жестоким наказанием крепостных, семейными скандалами, свидетелями которых постоянно оказывались дети.
Мать, Елена Андреевна, дочь мелкого чиновника, красивая, кроткая, образованная, терпела все выходки мужа, пыталась защищать дворовых от его гнева и как могла воспитывала и охраняла детей. О ней почти ничего не известно. Не осталось ни ее фотографий, ни писем.
Подробности семейной жизни заменила легенда. Поэт считал мать дочерью польского аристократа, «первой красавицей Варшавы», романтически бежавшей с бала, чтобы, вопреки воле родителей, обвенчаться с избранником. Потом она глубоко разочаровалась в любимом человеке, но с верой и достоинством несла свой крест.
Мать – самый высокий образ у Некрасова, к нему поэт постоянно возвращался в своих стихах. Поэма «Мать» (1877) писалась больше двадцати лет, но так и не была закончена. Подводя жизненные итоги, поэт считает себя обязанным матери всем: идеалами, призванием, «живой душой»:
И если я легко стряхнул с годамиС души моей тлетворные следы,Поправшей все разумное ногами,Гордившейся невежеством среды,И если я наполнил жизнь борьбоюЗа идеал добра и красотыИ носит песнь, слагаемая мною,Живой любви глубокие черты, —О мать моя, подвигнут я тобою!Во мне спасла живую душу ты!Некрасов утверждал, что он получил какое-то наследство и от отца. В черновиках стихотворения «Уныние» (1874) рассказано:
Но первые шаги не в нашей власти!Отец мой был охотник и игрок,И от него в наследство эти страстиЯ получил, они пошли мне впрок.Не зол, но крут, детей в суровой школеДержал старик, растил как дикарей,Мы жили с ним в лесу да в чистом поле,Травя волков, стреляя глухарей.В пятнадцать лет я был вполне воспитан,Как требовал отцовский идеал:Рука тверда, глаз верен, дух испытан,Но грамоту весьма нетвердо знал.С таким багажом Некрасов и отправился в большую жизнь. После неудачной учебы в Ярославской гимназии (1832–1836), два года передохнув в отцовском имении, юноша едет покорять столицу.
У родителей не было согласия по поводу его дальнейшей судьбы. Мать мечтала, чтобы сын окончил университет и стал образованным человеком, отец соглашался помогать ему лишь при условии поступления в кадетский корпус.
Некрасов, конечно, выбрал материнский путь. Узнав об ослушании, отец прервал всякие отношения с сыном, а также финансовую помощь. Но с университетом у молодого человека, нетвердо знавшего грамоту, отношения тоже не сложились. После двух бесплодных попыток поступления и краткого посещения лекций в качестве вольнослушателя Некрасов скатывается на дно петербургской жизни, превращается в форменного бродягу.
Эти годы он вспоминал как главное испытание своей жизни. Некрасов жил в «петербургских углах» и подвалах, ходил в лохмотьях, тяжело болел, брался за любую работу. Ему приходилось делать чернила из сапожной ваксы. Однажды ему подал милостыню нищий. «Ровно три года я чувствовал себя постоянно, каждый день голодным. Приходилось есть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не раз доходило до того, что я отправлялся в один ресторан в Морской, где дозволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросил себе. Возьмешь, бывало, для виду газету, а сам подвинешь к себе тарелку с хлебом и ешь», – вспоминал он в конце жизни.
Тем не менее в 1840 году он подготовил к изданию сборник стихов. За отзывом он пошел к жившему в Зимнем дворце В. А. Жуковскому. В отличие от Пушкина, он не услышал слов о победителе-ученике. Старый поэт отметил всего два стихотворения и дал хороший совет: «Если хотите печатать, то издавайте без имени, впоследствии вы напишете лучше и вам будет стыдно за эти стихи».
Так и случилось. «Мечты и звуки» вышли под инициалами Н. Н., успеха не имели, скоро были забраны автором из книжных магазинов и почти полностью уничтожены.
В эти годы Некрасов дал свою «аннибалову клятву». «Я поклялся не умереть на чердаке, я убивал в себе идеализм, я развивал в себе практическую сметку».
Лучше всего мечту-идею Некрасова описал Достоевский, именно потому, что она напоминала идеи героев его романов. «Миллион – вот демон Некрасова! 〈…〉 Это был демон гордости, жажды самообеспечения, потребности оградиться от людей твердой стеной и независимо, спокойно смотреть на их угрозы. Я думаю, что этот демон присосался еще к сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лет, очутившегося на петербургской мостовой, почти бежавшего от отца…»